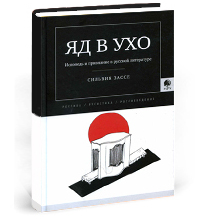ВНЕШНИЙ ВЗГЛЯД
Сильвия Зассе. Яд в ухо: Исповедь и признание в русской литературе / Пер. с нем. Б. Скуратова и И. Чубарова / Редактор Я. Охонько — М.: РГГУ, 2012. — 400 с. — (Сер. Россика/Русистика/Россиеведение, II)
Поле современных гуманитарных исследований отличается монолитностью и единством. И хотя разделяющие ученых разных стран языковые барьеры сегодня выглядят архаичными, а препятствия на пути к свободной коммуникации гуманитариев — устранимыми, повсеместный переход на единый конвенциональный язык науки (как правило, английский) представляется все же преждевременным. Есть несколько случаев, когда безусловно оправданной выглядит публикация результатов исследования на языках, отличных от современного научного эсперанто. Назовем лишь два: философские работы с высокой степенью сопряженности с языком и исследования, непосредственно связанные с корпусом классических произведений той или иной национальной культуры. Коль скоро, вопреки всем превратностям глобализации, остаются в силе стимулы публиковать научные работы на национальных языках, значит, сохраняет актуальность научный гуманитарный перевод — и как культурный институт, и как издательская университетская стратегия.
Движение к коммуникативному единству гуманитарного научного поля двуедино. Закономерное стремление к одновременной публикации трудов отечественных ученых на русском и английском языках дополняется изданием русских переводов наиболее значительных книг зарубежных
гуманитариев. Особенно интенсивно эта работа идет в России в последние двадцать лет, с момента снятия запрета, который советская научная ортодоксия налагала на целые отрасли гуманитарного знания, направления и школы в философии, социологии, психологии, литературоведении, истории, лингвистике. Тысячи научных трудов по ту сторону железного занавеса успели стать классическими, породив мощную ауру рецензий, комментариев, полемических откликов.
Уже в середине девяностых годов, однако, стало очевидно, что русские переводы ранее недоступных исследований сами по себе больше не отвечают запросам времени. Совершенствование научного аппарата изданий, снабжение их специальными комментариями, разнообразными отсутствующими
в оригинале дополнениями, порой целыми компендиумами работ, выходивших параллельно с развитием того или иного направления в науке, — все это стало непременным атрибутом современной переводной
литературы. Заслуженную известность и популярность за два прошедших десятилетия получили несколько серий научных переводов, выходивших в свет благодаря программам авторитетных зарубежных, а затем и отечественных фондов поддержки науки, а также по инициативе ведущих университетов России.
В 2011 году Российский государственный гуманитарный университет приступил к изданию двух серий переводных научных работ. Первую серию — «Современные гуманитарные исследования» — открыл сборник выдающегося мыслителя, критика и эссеиста начала XX в. Вальтера Беньямина «Учение о подобии: Медиаэстетические произведения», вторую — «Россика. Русистика. Россиеведение» — открывает настоящее издание монографии Сильвии Зассе. В основе концепции обеих серий лежит простая и ясная задача — следуя современной конвергенции наук, связать воедино как различные, прежде разобщенные научные дисциплины, так и разнообразные направления деятельности университета как образовательной и культурной институции.
Если говорить о единстве наук (в том числе традиционно разделяемых на «науки о природе» и «науки о духе»), то речь сегодня может идти об их новом синтезе под знаком приоритета гуманитарных дисциплин. Гуманитарное измерение тем с большей неизбежностью обнаруживает себя в любой сфере исследования, чем более фундаментальными оказываются достигнутые в ней результаты. Ядерная физика и биоинженерия, живые системы и интернет-технологии — в них и во множестве других областей знания гуманитарные аспекты явно выдвинулись на первый план.
Если же вести речь о сближении различных направлений деятельности современного университета, то именно новые книжные серии РГГУ могут служить очевидным примером продуктивности такого подхода. По мысли создателей серий, выход каждого тома будет итогом совместных усилий издателей, переводчиков, редакторов и исследователей, принявших участие в работе над текстом и научным аппаратом книги. Важнейшей для РГГУ, как университета исследовательского типа, является задача применения вышедших в свет монографий и сборников работ в учебных курсах и семинарах, их обсуждение на научных конференциях и круглых столах.
Именно поэтому в состав серий войдут в первую очередь те книги, которые востребованы преподавателями и исследователями разных институтов и факультетов нашего университета.
Разумеется, к работе над книгами серий «Современные гуманитарные исследования» и «Россика. Русистика. Россиеведение» будут привлечены также специалисты и переводчики из других университетов и научных центров. Подобное взаимодействие представителей различных научных направлений и академических институций способно подтвердить статус Российского государственного гуманитарного университета как одной из ключевых интеллектуальных площадок для взаимодействия современных ученых.
В заключение отметим два обстоятельства. Во-первых, в рамках новых книжных серий РГГУ будут выходить как классические труды, прежде по-русски не публиковавшиеся, либо переведенные заново, так и яркие зарубежные исследования последних лет. Во-вторых, книги рассчитаны не только на узкий круг специалистов, но и на студентов, а также на всех, кого привлекают насущные проблемы гуманитарных наук, — а проблемы эти в наши дни касаются буквально каждого современника двадцать
первого столетия.
Текст вступительного слова: Дмитрий Бак
I. ЯД В УХО
Уши—это сита, ты слышишь, и все, что происходит, все, что проходит сквозь них, просеивает то, что я хочу услышать.
Томас Шестаг[1]
Как «яд в ухо другого»[2] характеризует Павел Пепперштейн в эссе «Окошечко для исповеди» «повествовательный коитус»[3], происходящий при исповедовании на ухо священнику. Если признание
в грехах обещает грешнику новое спасение и облагороженную биографию, то в ухо исповедника грехи вливаются с агрессивным буйством. Освобождение первого действует словно яд, вливающийся в ухо второго. Поэтому, как иронически замечает Пепперштейн, католики в своих исповедальнях пытаются «компенсировать» греховное и грешащее слово утонченной архитектурой. Они просеивают речь сквозь решетку, отделяющую грешника от исповедника, и изгоняют слово сквозь орнамент окошечка исповедальни. Ведь Библия учит, что грех может, в конечном счете, переноситься и через слово, а последнее может быть и грехом.
Русской православной церкви неведомы ни исповедальня, ни материальный словесный фильтр между исповедующимся и исповедником[4]. Исповедующийся и исповедник стоят или сидят друг напротив друга. Священник подводит прихожанина, который готовится к исповеди, к аналою в одном из боковых приделов храма, где лежат икона, изображающая Христа, или Евангелие, и крест. Икона и крест символизируют, что исповедь производится не перед священником (он — лишь свидетель), но перед незримо присутствующим Христом. Исповедующийся, в отличие от католической традиции, говорит исповеднику непосредственно в ухо, и делает это публично, перед собравшейся толпой тех, кто также дожидается исповеди в церкви. Чтобы ожидающие исповеди не услышали исповедующегося, ему приходится сильнее приближаться к уху исповедника и нашептывать свои грехи чуть ли не в интимном акте. В отличие от католического исповедника, который лишь слышит грешника, русский православный духовник еще и видит его. Ему не нужно домысливать внешние признаки как аналог услышанному.
Но можно ли, исходя из этих речевых ситуаций, делать вывод о связи между языком, грехом и отпущением грехов? Сообщается ли посредством видения и/или слушания какое-то иное представление о прозрачности и достоверности сказанного?
В католической исповеди, как пишет Кьеркегор, исповедник «сам формирует внешнее, которое соответствует услышанному; поэтому он не впадает в противоречие»[5]. Восточная же церковь, как можно наблюдать, привязывает истинностное высказывание, правдивую речь к переживанию всех чувств. Исповедь не ограничивается смыслом услышанного, но связывает внутренний смысл с внешним, смысл увиденного — со смыслом услышанного. Живые, правдивые слова, согласно учению Восточной церкви, всегда одновременно являются слышимыми и видимыми.
Но вместе с тем, продолжает Кьеркегор, «если мы одновременно видим и слышим», то «все-таки сохраняем решетку между собой и говорящим»[6]. Если мы в одно и то же время видим и слышим, то хотя между говорящими отсутствует сетка исповедальни как перегородка и фильтр, между ними все же продолжает существовать другая решетка, решетка языка[7]. Видение одновременно со слушанием не служит ни предпосылкой для понимания, ни гарантом прозрачности. Кьеркегор обращает здесь внимание на проблему сообщения, которую не тематизирует институт исповеди ни в католической, ни в восточной традициях, — и этому тоже есть объяснение. Итак, независимо от того, как религия мыслит ситуацию высказывания грехов, можно сделать вывод, что исповедь не может исключить сам язык и имманентную ему решетку посредством архитектуры, правил или речевых наставлений.
Исповедь, в отличие от других практик покаяния, представляет собой отпущение грехов посредством речи. В центре внимания данного исследования находятся ситуация говорения и концепция языка в исповеди. Даже если нет решетки исповедальни, общим как для Русской православной, так и для Римско-католической церкви является тот факт, что слово в исповеди выполняет не только функцию инструмента для выговаривания грехов, но одновременно роль и агента, и темы исповедования. Наряду с грехом в деяниях и мыслях римско-католической и русской православной традициям известен и словесный грех[8]. Языковой решетке, сквозь которую может быть изгнано греховное слово, не обязательно быть материальной — она может брать на себя функцию фильтрования и в форме свода правил. Такое обращение со словом демонстрируют руководства для исповеди, «зерцала исповеди», книги ответов, литургия покаяния с предваряющими ее молитвами, взывания о заступничестве, в которых тематизируются говорение и возможная сила слова. Эти своды правил содержат казуистику говорения и слушания, опосредующую представление о сущности языка и его применении, выходящем далеко за рамки речевой ситуации исповедования. Акт исповедования скорее способствует такому пониманию, которое не только ставит язык и говорение в связь с грехом и преступлением, но еще и наделяет его особой силой. Исповедь провоцирует возникновение настоящей фобии, касающейся силы и власти слова, и фобия эта служит легитимации цензуры и сводов правил говорения. Даже на примере таинства покаяния можно наблюдать, что как грех, так и истина мыслятся действенными: они воздействуют и проявляются в ушах слушающего, в его поступках, жестах и помыслах.
Это касается и ситуации высказывания, то есть инсценирования искренности посредством слез, соответствующей мимики и жестикуляции, а также правильного подбора слов. Правдивость и аутентичность говорения и высказываемого должны непосредственно подтвердиться благодаря своему воздействию.
Под заглавием «Яд в ухо» будет исследоваться признанный и по существу инсценированный способ воздействия слова при исповедовании. Направление этого влияния в исповеди не является односторонним, даже если заголовок наводит на такую мысль. Исповедование, скорее, — как это подтверждает направление адресации в русской православной традиции — вплетено в сложную сеть прямых и косвенных обращения, молитвы, взывания о заступничестве, вопроса, ответа и отпущения грехов.
Яд ИЛИ спасение принимает не только исповедник, но и сам кающийся. Литературные исповедования и признания, в свою очередь, не только содержательно воспроизводят эти церковные таинства (как гласит исходный тезис данной работы), но и переносят ситуацию коммуникации между исповедующимся и исповедником, сознающимся и судьей еще и на взаимоотношения текста с читателем. К читателю при этом обращаются либо непосредственно, либо же он мыслится как свидетель, соглядатай ситуации исповеди. Правда, в обоих случаях речь идет не о любом читателе, но о таком, который уже спроецирован в текст автора, придумывающего ситуацию исповеди. Этот читатель конструируется уже в приветственной речи, в обращении, в апострофе и в адресации как конкретный или абсолютный д/Другой[9] и таким образом превращается в фигуру текста.
Придумывание ситуации исповедования и признания позволяет также включить в фикционализацию, то есть придумать: инстанции, к которым обращается исповедующийся; закон, ориентируясь на который он пришел к осознанию собственной виновности; а также закон высказываемого. Вследствие этого литературный текст исповеди является не только записью исповедующегося субъекта, но и описанием ситуации, которая префигурирована религиозной практикой исповеди. Исповедь всегда имеет адресат. Если читатель, в силу диалогового характера исповедальной коммуникации, проецируется в литературные тексты в качестве исповедника, судьи или даже психоаналитика, то именно ему предстоит вынести приговор, интерпретацию и оправдание. Читатели в этом случае не только сами выносят приговор, но и сталкиваются с собственным вердиктом, который текст предвосхищает, с которым полемизирует или которого опасается. И тогда чтение перестает быть чем-то невинным или произвольным, но превращает читателя в судящую фигуру текста. Как таковой, читатель читает себя, и его суждение или приговор — составная часть выходящей за пределы текста выдуманной диалоговой ситуации.
Вопрос, который ставят литературные тексты через фикционализацию отношений коммуникации кающегося и исповедника, сознающегося и судьи, или даже пациента и психоаналитика, представляет собой вопрос об отличии эстетического суждения от религиозного и юридического. В литературных исповедях применяются все мыслимые техники и фигуры религиозной, а также классической античной риторики для манипуляции суждениями читателя в своих целях и их префигурирования для создания литературного текста.
Вопросы литературной адресации исповедей и нераздельности эстетического, религиозного и юридического суждений предстают в настоящей работе встроенными в тот культурно-исторический дискурс, который ставит взаимоотношения кающегося и исповедника (сознающегося и судьи) в контекст русской православной традиции и русского судоговорения. Фикционализация самого себя и другого тем самым описывается не как чисто литературный процесс, но как эффект, который оказался сдвинутым в сторону «Я» из-за принуждения к самотематизации. Поэтому в центре данной книги находятся вопросы о соответствующем статусе речи при исповедовании и признании (отношения между словом и поступком; констатация законов о том, что можно говорить; зерцало исповеди) и о речевой ситуации (архитектура исповедования, публичный и частный характер исповеди).
С исторической точки зрения исследование исповедальной практики в Русской православной церкви охватывает период от первоначальной церкви до XIX в., который, правда, можно описать лишь отрывочно. В центре стоят вопросы отношений языка и греха, где наиболее отчетливо проявляется отличие от католической и протестантской практики. Сюда относятся не только различия в литургии и архитектуре, но и: иное представление о таинстве покаяния; отличие положения исповедника по отношению к исповедующемуся; другое учение о роли епитимьи (наказания); модификации исповедальной практики после отмены тайны исповеди в XVII в.; введение общей исповеди Иоанном Кронштадтским в XIX в.; наконец, трансформация исповедального таинства в политически мотивированную практику исправления посредством «критики и самокритики» в сталинскую эпоху в XX в.
Вместе с тем с литературно-исторической точки зрения это исследование начинается лишь в момент, когда практика исповедования как будто начинает утрачивать релевантность, в конце XIX в. Ни одна из представленных и разобранных в этой книге литературных исповедей, как и ни одно из литературных признаний[10], не отвечают конститутивным для жанра признакам исповеди перед исповедником или признания перед судом. Все эти исповеди и признания взяты у авторов или персонажей, выступавших против законов исповедования и признания в бунтарском или пародийном духе. Их речевое и языковое преступление, или словесный проступок либо утверждается как факт вместе с исповеданием, либо только совершается через исповедование и примененный в нем язык. Так, публичная исповедь Льва Толстого,
неприкрыто критикующая официальную церковность, привела к отлучению писателя от церкви.
Избранные нами для анализа временные рамки неслучайны.
То, что мы начинаем с литературных исповедей Достоевского и Толстого, означает рассмотрение того периода, когда иные — юридические, психологические, политические и теологические — дискурсы начинают ставить под сомнение цель исповедования и заменять его другими речевыми и языковыми практиками и представлениями о святости и исцелении, или же, как в случае с социалистической самокритикой, трансформировать исповедь в политическую концепцию.
Вместе с трансформацией исповеди в другие спасительные дискурсы начинается и изменение в представлении о сущности языка, определяющееся вопросом предполагаемой адресованности речи. Если Бог как судебная инстанция, исповедник как духовный отец перестали признаваться или господствовать и заменялись другими адресатами — законом, психоаналитиком, Сталиным,— а зачастую отменялись вовсе, то говорение без адресата или многомерное говорение свидетельствует не только о неумолимости речи как таковой, но и об исправимости или неисправимости слова в одном или нескольких смыслах. Так, чтобы отчетливо обозначить эту опасность, Достоевский представил целый спектр исповедей и исповедующихся, сталкивающихся с незнанием того, перед кем держать ответ. Его исповедующиеся — прежде всего материалисты, нигилисты и парадоксалисты, у которых отсутствуют слушающие.
Во всех анализируемых здесь исповедях преступление располагается на уровне языка; исповедующиеся совершают прегрешение посредством тематизации чего-либо и применяют язык не только против соответствующего религиозного или политического воззрения на самотематизацию, но и против господствующей доктрины искусства. При этом становится очевидным, каким образом религиозные представления об исповеди являются еще и составной частью различных воззрений на искусство: требование публичной речи, подлинность, сокрушение сердца, сочувствие, непосредственное воздействие речи, и вместе с тем осуждение риторических средств, всевозможных разновидностей искажения, симуляции и выдумывания. Не в последнюю очередь греховным является само литературное; однако исповедь, как мы еще увидим, представляет собой мотор для придумывания «Я» и изобретения словесного, трудового и мыслительного преступления.
____________
1 Цит. по: Schestag Thomas. Grille / / Der Prokurist. 1999. № 16/17. S. 153-159; здесь s. 153.
2 Инспекция медицинской герменевтики. «Das Kabinett des Psychotherapeuten. Das Beichtfenster», Via Regia. 1998. № 48/49. S. 53-56; здесь s. 56. Мотив вливания яда в ухо медгерменевты связывают с убийством отца Гамлета посредством яда и называют это «синдромом отца Гамлета». Инспекция медгерменевтики — группа художников, основанная в 1987 г. Павлом Пепперштейном, Сергеем Ануфриевым и Юрием Лейдерманом. Уже в названии содержится намек на двусмысленность медицинского и герменевтического действия и исцеления. В своих работах медгерменевты исследуют, среди прочего, механизмы воздействия языка, его магическое, исцеляющее, бредовое и гипнотизирующее влияние в различных культурных контекстах. Об этом см.: Sasse, Sylvia. Texte in Aktion. Sprech- und Sprachakte im Moskauer Konzeptualismus. München, 2003.
3 Ibidem.
4 Об исповеди в Русской православной церкви см., в особенности: Алмазов А.И. Тайная исповедь в православной восточной церкви. Опыт внешней истории. Исследования преимущественно по рукописям: В 3 т. Одесса, 1894 (репринт: М., 1995); Смирнов С. Древнерусский духовник. Исследование по истории церковного быта. М, 1914; Schröder Gisela. Die Lehre vom Sakrament der Buße in der Russisch-Orthodoxen Kirche. Dissertationstyposkript. Universität Greifswald, 1978; Kraienhorst Heinrich Bernhard. Büß- und Beichtordnungen des griechischen Euchologions und des slawischen Trebniks in ihrer Entwicklung zwischen Osten und Westen. Würzburg, 2003; Smolitsch Igor. Geschichte der Russischen Kirche 1700-1917. Leiden, 1964. Bd. 1. S. 74, 81,464; Heyer Friedrich. Konfessionskunde. Berlin; NY, 1977. S. 51 ff.; Benz Ernst. Geist und Leben der Ostkirche. Hamburg, 1957. S. 46; Handbuch der Ostkirchenkunde. Bd. 1 und 2. Wilhelm Nyssen et al. (Hg.). Düsseldorf, 1984 und 1989. S. 155 ff. Ökumenische Kirchenkunde. Stuttgart, 1962. S. 159; Heiler Friedrich. Urkirche und Ostkirche. München, 1937. S. 267 ff.; Ware Timothy. The Orthodox Church. Baltimore, 1963. S. 296 ff. О секуляризации исповеди в советское время см.: Kharkhordin Oleg. The Collective and the Individual in Russia. A Study of Practices. Berkeley; Los Angeles; London, 1999.
5 Kierkegaard Sören. Entweder/Oder. Erster Teil, Band 1; Gesammelte Werke / von Emanuel Hirsch und Hayo Gerdes (Hg.). Aus dem Dänischen von Emanuel Hirsch. 1. Abteilung. Gütersloh, 1993. S. 4.
6 Ibidem.
7 На это основополагающее измерение языка, как одновременно и разделяющей, и соединяющей структуры, языковой решетки, обращает внимание и Пауль Целан в поэтологических высказываниях относительно своего сборника стихотворений «Решетка языка» (Sprachgitter), 1959. Об этом см.: Zanetti Sandro. Zeitoffen: Zur Chronographie Paul Celans. München, 2006.
8 Онаш в своей книге «Дух и история Русской восточной церкви» говорит о специфическом осмыслении грехов Восточной церковью, когда грех представляет собой не моральный, но экзистенциальный фактор. «Он приобретает демонический, прямо-таки изгоняющий человека характер, это не периферийное, не только нравственное или моральное дело человека или соответствующей предрасположенности его природы; скорее, он обозначает нарушение и путаницу (diabolos по-гречески означает, собственно, «разбрасывание», «переворачивание вверх дном») в человеческом и стоящем выше человека космосе, уменьшение гармонии, возвышение бессмысленности и брутальности по сравнению со смыслом жизни, а также смирением». Поэтому в дальнейшем речь идет о том, что совершение греха — не моральный, но трансцендентальный акт (Onasch Konrad. Geist und Geschichte der russischen Ostkirche. Berlin, 1947. S. 15,17).
9 Если в дальнейшем я пользуюсь словами «другой», «Другой» и «д/Другой», то «другой» соответствует адресации конкретного обращения, «Другой» — закону обращения, символическому порядку или абсолютному, трансцендентному Другому. Если же (как происходит в большинстве случаев) их невозможно отделить друг от друга, то я употребляю обозначение «д/Другой».
10 Разумеется, я отличаю в этой работе исповедование духовного закона от признаний, имеющих в виду закон светский. Основное внимание в работе уделяется практике исповеди как института, организующего самопознание в ситуации греха и подготавливающего соответствующие способы говорения. Исповедание грехов и признание перед судом по логике и структуре совершенно несходные вещи: судебное признание соотносится с конкретным проступком, а в исповеди человек исповедуется без того, чтобы перед этим его считали виновным в каком-то конкретном деянии. Исповедоваться должен верующий, а не только преступник; исповедь происходит регулярно, обращается к абсолютному Другому, к Богу, и с исповедованием связано исцеление — вот лишь несколько различий. Если признания перед судом и играют в этой книге какую-то роль, то преимущественно в связи с исповедью, как, например, практика исповеди в Советском Союзе, которая восприняла структурные элементы из русской церковной традиции.
Публикация: ЛитСнаб.Ру