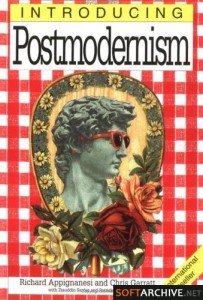
Валерий Даниленко. Постмодернизм в русской литературе: теория и практика
Что такое постмодернизм? В словаре культурологических терминов читаем: «Постмодернизм стоит в ряду течений, описывающих уникальность нашего переживания ситуации конца XX в., всю сумму культурных настроений, философскую оценку последних тенденций в развитии культуры. Постмодернизм означает «после модернизма», т. е. показывает преемственность и вполне определённое отношение к модернистским тенденциям в культуре. Течение постмодернизма складывалось в конце 60-х годов, в эпоху культурного кризиса в США. В целом постмодернизм — это выражение мировоззрения, переход к новому витку в развитии культуры, размывание границ, рамок между формами культурной деятельности. В эпоху постмодернизма происходит эклектическая интеграция не видов искусства, а искусства и науки, философии, религии. Всё это напоминает возврат к синкретизму, но на более высоком мировоззренческом уровне. Постмодернизм лишён стремления к исследованию глубинных проблем и процессов бытия, он стремится к простоте и ясности, к совмещению культурных эпох. Поверхностное, но синтетическое отражение мира суть человеческого сознания. Мир нужно не понимать, а принимать. Весь слой культуры в концепции постмодернизма становится достоянием рефлексирующего ума. Подлинный мир постмодернизма — лабиринт и полумрак, зеркало и неясность, простота, не имеющая смысла. Законом, определяющим отношение человека к миру, должен стать закон иерархии допустимого, суть которого состоит в мгновенном объяснении истины на основе интуиции, которая возводится в ранг основного принципа этики. Окончательное свое слово постмодернизм ещё не сказал» (1).
Из такого расплывчатого определения постмодернизма мы можем сделать и другой вывод: окончательное слово ещё не сказано и о самом постмодернизме. В этом определении проскакивают такие характеристики постмодернистского искусства, как: 1) его преемственность по отношению к модернизму; 2) размытость границ между искусством и другими сферами культуры; 3) целостное, но поверхностное представление о мире; 4) конформизм по отношению к окружающей жизни; 5) «лабиринт и полумрак, зеркало и неясность, простота, не имеющая смысла». Даже и из этих признаков постмодернистского мировоззрения вырисовывается не очень весёлая картинка (по крайней мере начиная с третьего пункта), но она станет ещё более печальной, если мы укажем на главную, ведущую черту постмодернизма, о которой не упоминается в данном определении, — на его инволюционизм. Инволюционизм был характерен для модернизма, что мы видели на примере русского футуризма с его стремлением разрушить искусство. Инволюционизм унаследован от модернизма и постмодернизмом. Из него вытекают и размытость границ между искусством, религией, наукой и другими сферами культуры, что свидетельствует о кризисе искусства в области его собственных форм, и поверхностное представление о мире, и конформизм (т. е. пассивность и приспособленчество) его представителей по отношению к окружающей жизни, и тяга к бессмысленности.
В приведённом определении постмодернизма нет имени ни одного из его представителей в искусстве. Осторожность никогда не помешает. Но другие авторы забывают об этом мудром совете и относят, например, к постмодернистам таких поэтов, как И. Жданов, А. Еремёнко, А. Парщиков и др. На сайте «Постмодернизм на уроках литературы», откуда я взял эти фамилии, подчёркнуты такие особенности постмодернизма в современной поэзии: «1. В современной поэзии чувство вытесняется разумом, душа — интеллектом. 2. Поэты связывают, сталкивают слова не по их значению, а, как правило, по каким-то произвольным признакам. 3. Поэтов роднит ощущение конца эпохи. 4. Ирония стала едва ли не единственным способом восприятия и осмысления мира. 5. Поэты часто полагаются на скрытые возможности языка, экспериментируют со словом. 6. Порой не признают знаков препинания. 7. Пытаются примирить «высокий» язык поэзии с «низким» языком улиц и кухонь. 8. Постмодернизм утверждает, что всё уже давно изобретено, поэтому создавать что-либо новое лучше из «осколков» уже существующего» (2).
Эта картинка ещё менее весёлая, чем предшествующая. Но она, как мне кажется, в большей мере, чем вышеприведённая, указывает на преемственность постмодернизма и модернизма. Во всяком случае, мы помним, как футуристы призывали в своих манифестах: 1) к отказу от души; 2) к отказу от смысловых связей между словами; 3) к ироническому отношению к миру, включая своих великих предшественников в области литературы; 4) к экспериментированию над языком, в котором они достигли небывалых успехов; 5) к свободному обращению не только со знаками препинания, но и с русским языком в целом. Преемственность в этих шести пунктах налицо! Вот только с последним пунктом постмодернистской поэтики футуристы явно не согласились бы. С присущей им самоуверенностью они искали новые формы в поэзии, а что же мы видим здесь? Всё уже давно изобретено, всё уже известно, поэтому паразитируй на старом, делай римейк. Выходит, к старой литературе современные поэты-постмодернисты относятся с бóльшим уважением, чем футуристы! А из чего бы тогда собирать «осколки»? Правильно, из уже существующего. Вот таким, например, образом: «И долго буду тем любезен я и этим» или: «Кто был ничем, тот стал никем». Приведу некоторые примеры «осколочной» поэзии Александра Ерёменко:
Играет ветер, бьётся ставень,
А мачта гнётся и скрипит.
А по ночам гуляет Сталин,
Но вреден север для меня.
***
И я там был, мед-пиво пил,
Изображая смерть и муку,
Но кто-то камень положил
В мою протянутую руку.
Разумеется, не вся постмодернистская поэзия «осколочная», но я привёл эти строчки не случайно: они указывают на внутреннюю пустоту многих современных поэтов с полной очевидностью. А вот вам и другие подтверждения этой пустоты.
Послание Ленке
Леночка, будем мещанами!
Я понимаю, что трудно,
что невозможно практически это.
Не поддаваться давай… Канарейкам
Свернувши головки,
здесь развитой романтизм воцарился,
быть может, навеки.
Соколы здесь, буревестники все,
в лучшем случае — чайки.
Будем с той голубками с виньетки.
Средь клёкота злого
будем с тобой ворковать,
средь голодного волчьего воя
будем мурлыкать котятами в тёплом лукошке.
Не эпатаж это — просто
желание выжить
(Тимур Кибиров)
До слова
Ты — сцена и актёр в пустующем театре.
Ты занавес сорвёшь, разыгрывая быт,
и пьяная тоска, горящая, как натрий,
в кромешной темноте по залу пролетит.
Тряпичные сады задушены плодами,
когда твою гортань перегибает речь
и жестяной погром тебя возносит в драме
высвечивать углы, разбойничать и жечь.
Но утлые гробы незаселённых кресел
не дрогнут, не вздохнут, не хрястнут пополам,
не двинутся туда, где ты опять развесил
краплёный кавардак, побитый молью хлам.
И вот уже партер перерастает в гору,
подножием своим полсцены охватив,
и, с этой немотой поддерживая ссору,
свой вечный монолог ты катишь, как Сизиф.
Ты — соловьиный свист, летящий рикошетом.
Как будто кто-то спит и видит этот сон,
где ты живешь один, не ведая при этом,
что день за днём ты ждёшь, когда проснётся он.
И тень твоя пошла по городу нагая
цветочниц ублажать, размешивать гульбу.
Ей некогда скучать, она совсем другая,
ей не с чего дудеть с тобой в одну трубу.
И птица, и полёт в ней слиты воедино,
там свадьбами гудят и лёд, и холода,
там ждут отец и мать к себе немого сына,
а он глядит в окно и смотрит в никуда.
Но где-то в стороне от взгляда ледяного,
свивая в смерч твою горчичную тюрьму,
рождается впотьмах само собою слово
и тянется к тебе, и ты идёшь к нему.
Ты падаешь, как степь, изъеденная зноем,
и всадники толпой соскакивают с туч,
и свежестью разят пространство раздвижное,
и крылья берегов обхватывают луч.
О, дайте только крест! И я вздохну от боли,
и продолжая дно, и берега креня.
Я брошу балаган — и там, в открытом поле…
Но кто-то видит сон, и сон длинней меня…
(Иван Жданов. Фоторобот запретного мира)
***
Смерть
это белая бабочка ночью на стуле
Ночью в саду темнота
три кота и ведро с купоросом
Выдь на дорогу
Нудит циркулярка над лесом
словно тряпичная баба
качает дитя на вокзале…
(Нина Искренко)
***
съедобны мы Твои народы
на языке твоём растаяв
рецепт невиданной свободы
голодным ангелам оставил
***
дела твои прозрачны Боже
слова темны, а дни прохладны
я чувствую мороз по коже
одежды шелест шоколадный
(Виктор Кривулин)
***
Жил на свете мусор бедный…
Ей Достоевский застудил…
Достоевский сюда не отсюда смотрели…
Бедная власть! не полюбишь тебя добровольно…
Застыдили. Зарделась: «ЛЮБЛЮ!»
А глаза-то, глаза!..
Смотря кому достанется кусок…
Добровольные сумерки знают…
Глаза — как Лермонтов готовый умереть
Не куском же из память самым живым…
Не знаю… когда-нибудь после, потом…
(Виктор Кривулин. Три венка сонетов)
Из всех этих стихотворений мне больше всего понравилось первое — Т. Кибирова. В нём автор призывает Ленку к инволюционному возврату в царство животных, но вовсе не к свиньям, как мечтал Алексей Кручёных, а к голубкам и котятам «в тёплом лукошке». Речь идёт, таким образом, о возврате к животным, но покоящимся в тепле и комфорте. А. Кручёных, как мы помним, довольствовался грязным загоном для свиней. Выходит, между Кручёных и Кибировым имеется существенная разница. Что же, цивилизационый прогресс налицо! Однако наибольших успехов в постмодернистской поэзии достиг Д.А. Пригов.
Дмитрий Александрович Пригов (1940-2007). Учился в МВХПУ (бывш. Строгановское). В 1975 году был принят в члены Союза художников. На родине до 1986 года не выставлялся и не печатался. К настоящему времени его книги изданы в Германии (5 книг), Англии, Франции, Италии. В России увидели свет «Слёзы геральдической души» (1990), «Пятьдесят капелек крови» (1993), «Явление стиха после его смерти» (1995). Какие душещипательные названия! А какие в этих книжках «шедевры»! Чтобы вы сами это почувствовали, приведу здесь только некоторые из них.
Два стиха, надо полагать, о В.И. Ленине:
* * *
Когда звонят и на порог
Пленительный и белоснежный
Является единорог
И голосом безумно нежным
Он говорит: Пойдём мой милый
Я покажу тебе могилу
Ленина —
Не верь! не верь — он есть тайна
смертной доблести, а не рыцарской!
не его дела над этими вещами покров приподнимать!
* * *
В снегах ли русских под Рязанью
В степях калмыцких под Казанью
В горах ли тайного Аленина
Или в песках под дикой Яффой
Вдруг выплывет могила Ленина
И строго скажет: Маранафа! —
И произойдёт.
2. Два стиха, надо полагать, о любви:
* * *
В ночной прохладе я стояла
Светало, но я всё стоял
Но как-то вдруг тревожно стало
Я глянул вверх и увидал —
Бог надо мною умирал
Прекрасный
Я глянула — да я сама
Умирала
Вследствие
* * *
— Смотри! — она мне говорит
Вот это грудь! — и мою руку
Кладёт на грудь — А это вот
Живот и ниже! — мою руку
Кладёт на выпуклый живот
А после опускает ниже
А после говорит: И вот
Вот так я и живу! — Я вижу
Как живёшь! — отвечаю
И задумываюсь
3. Две, надо полагать, сказочки:
* * *
Разреши мне, матушка
Дикого медведюшку
В гости к нам привесть!
Ох ж ты, моя деточка
Глупая кровиночка
Он же нас поесть! —
Так и есть
Съел
Права была матушка
* * *
Близь немецкой деревушки
Девушки-подружки
Бела козлика поймали
За крутые рожки
Они вот его ласкают
Тихо обнимают
Чем-то жёлтым поливают
И коричневым и мягким
Чем-то натирают
Ты лети, наш голубочек
А и полетел он
Только стал он своим телом
Вдруг каким-то очень
Неприкасаемым
Для женских касаний —
Чисто могила Ленина
4. Разное:
Я стал стыдиться своих ног и рук
Я прятал их, обматывал бинтами
Скрывался под огромными зонтами
Чёрными
И мысль спасительная приходила вдруг:
Схватить топор и отрубить их прочь
И приходил в себя внезапно — ночь
Стояла
* * *
Вокруг Она стоит у двери туалета
Переминаясь и торопит: Это… это!
Скорей! —
Выходишь — она внутрь вбегает
И
Одним глотком из унитаза выпивает
Всю скопившуюся там кровь
Вот такая, с позволения сказать, поэзия! Многие из приведённых мною стихов я взял из 9-го тома «Энциклопедии для детей» (!), посвящённого русской литературе ХХ века (3). Мы найдём в ней ещё одно определение постмодернизма. Процитирую самое интересное из него: «До ХХ века поэзия воспринималась как отражение высших, абсолютных ценностей Красоты, Добра, Истины. Поэт был их служителем-жрецом… Постмодернизм отменил все высшие идеалы. Потеряли смысл понятия высокого и низкого, прекрасного и безобразного. Всё стало равнозначно и всё одинаково дозволено…» (2;501). Это написано для детей, и мы должны были бы ожидать от автора заметки о постмодернизме, цитату из которой я только что привёл, какой-то осуждающей оценки в адрес жизненной позиции его представителей. Ничего подобного! Это вам не Корней Чуковский пишет, а Мария Максимова. Ей дела нет до осуждения разрушительной сущности постмодернизма, которому, как она сообщает нам, «всё дозволено» и который в такой мере потерял ценностные ориентиры в жизни, что его представителям, как зайцам из известной песни, исполняемой Юрием Никулиным, всё равно — красота и безобразное, добро и зло, истина и ложь. Они их деконструируют. Выходит, что и самой М. Максимовой всё равно! Выходит, что и она пребывает в постмодернистском состоянии. Нет, это вам не Корней Чуковский, который позволял себе давать нелицеприятную оценку футуристам, современником которых он был и многим из которых тоже было всё равно (вспомните хотя бы И. Северянина с его «Я славлю восторженно Христа и Антихриста… Голубку и ястреба!.. Кокотку и схимника»).
А каких современных писателей наши критики относят к постмодернистам? Обратимся снова к сайту «Постмодернизм на уроках литературы». Мы находим там В. Пелевина, С. Соколова, С. Довлатова, Т. Толстую и В. Сорокина. Но М. Эпштейн, М.Н. Липовецкий, А.С. Карпов и другие критики добавляют к этому списку В. Ерофеева (не путать с Венедиктом Ерофеевым, автором «сентиментального путешествия» «Москва — Петушки»), А. Битова, А. Синявского, В. Пьецуха, В. Войновича, В. Аксёнова, Л. Петрушевскую и др. А вот какие признаки постмодернистской прозы мы обнаруживаем на упомянутом сайте: «1) подход к искусству как своеобразному коду, то есть своду правил организации текста; 2) попытка передать своё восприятие хаотичности мира сознательно организованным хаосом художественного произведения; 3) скептическое отношение к любым авторитетам, тяготение к пародии; значимость, самоценность текста («авторитет письма»); 4) подчёркивание условности художественно-изобразительных средств («обнажение приёма»); 5) сочетание в одном тексте стилистически разных жанров и литературных эпох» (2).
Две идеи здесь главные — хаотическая и нигилистическая. Последняя распространяется на предшествующую литературу. Здесь постмодернисты солидарны с модернистами, которые собирались, как мы помним, сбросить с «корабля современности» А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и других гениев русской литературы. Что же касается хаоса, то и он был характерен для модернистов, поскольку они звали от цивилизации к дикости, т. е. шли по инволюционному пути, а предельной точкой инволюции и является хаос.
Выходит, типологически модернизм и постмодернизм — одного поля ягода. Иначе говоря, постмодернисты — это воскресшие модернисты. У них одна сущность — инволюционизм. Это и понятно, инволюционизм есть движение вспять, а что это значит? Разрушить то, что есть, и возвратиться — в идеале — к хаосу. В этом состоит сущность инволюционизма, а проявляется она в разных сферах культуры в особых формах. В религии — в своих, в науке — в своих, в нравственности — в своих, в политике — в своих и т. д. Но суть везде одна — разрушение той области культуры, в которой оказались люди с инволюционистским типом мировоззрения (в религии, науке, нравственности, политике и т. д.), и возврат к хаосу. Хаос есть предельная мечта инволюциониста. Но обычно он застревает на полпути к её осуществлению: до первозданного хаоса не добирается, а застывает где-нибудь на уровне животного биогенеза или первобытной дикости. Если даже и к ним возвратиться не удаётся, то можно воспользоваться их суррогатом, т. е. представить в виде хаоса определённый период человеческой истории. Например, поместив в синхронную плоскость героев, живших в разное время, или смешав реальный мир с виртуальным, фантастическим. Но можно это делать так, как Данте Алигьери или Михаил Булгаков, — с культуросозидательной целью, а можно и с другой целью — разрушительной, как это делают постмодернисты.
Вся проблема в том, что нельзя представлять себе модернизм или постмодернизм как абсолютную хаотизацию наших представлений о мире. В идеальном виде такая хаотизация существует лишь в теории, а в конкретных произведениях искусства она представлена лишь в виде тенденции, сосуществуя с другою — упорядочивающей, созидательной — тенденцией. Абсолютных инволюционистов не бывает ни в искусстве, ни в науке, ни в какой-либо другой сфере культуры. Всё дело в том, чтобы в конкретном произведении искусства суметь увидеть, какая из этих тенденций — созидательная или разрушительная — в нём преобладает. Есть авторы, разрушительная тенденция у которых бросается в глаза (как, например, у модерниста Василиска Гнедова или постмодерниста Владимира Сорокина), но есть и такие, в произведениях которых эту тенденцию трудно признать за господствующую. Критический анализ подобных произведений посилен только таким мудрым критикам, каким был, например, К.И. Чуковский.
Такие критики есть и сейчас, хотя их голос часто заглушается немзерами. К ним относится, например, Анатолий Сергеевич Карпов. Он так охарактеризовал почву, на которой вырос постмодернизм в искусстве, и некоторых её российских представителей: «Специфика постмодернизма в искусстве основательно охарактеризована в работах Р. Барта, Ж. Дерриды, Ю. Кристевой, Ж.-Ф. Лиотара и др. Исходным для его возникновения и становления объявляется отказ от прежних рационалистически обоснованных культурных ценностей, от веры в универсальный характер критериев, основывавшихся на принципах разума и прогресса, в существование причинно-следственных связей меж элементами, составляющими мир, и т. д. В ситуации, которая складывается в литературе — и не только в литературе — в России на рубеже 80-90-х годов, эти тенденции в развитии искусства находят особенно благодатную почву… Крах идеалов отзывается отказом от упорядоченности в свете не только идеологии, но также этики и эстетики, в результате чего прежняя системность сознания сменяется мозаичностью, фрагментарностью. Стремление к натуралистической обнажённости при изображении реальности соединяется со стремлением выйти за её (реальности) пределы в области мистического (Л. Петрушевская, В. Орлов) — так обнаруживает себя желание найти более глубокие, лежащие на уровне естественного, инстинктивного, основания и причины человеческого существования в условиях, когда задача жить сменяется необходимостью выжить. Возникающее в постсоветскую эпоху состояние мира может быть охарактеризовано как хаотическое… Ощущение самодостаточности может отзываться в литературе убеждённостью в необходимости «полного разрыва с традиционной литературой» (Вик. Ерофеев). И — столь часто встречающимся стремлением сделать сюжетным центром произведения творческий акт, закрепляя тем самым «концепцию автономности творческого сознания» (М. Липовецкий). Тяга к метарассказу актуализируется в искусстве постмодернизма, где главным героем (у А. Битова, С. Соколова, Ю. Буйды и др.) оказывается писатель и его взаимоотношения не столько с реальной действительностью, сколько с текстом, служащим сюжетной основой произведения. Но такая замкнутость литературы на себя ведёт, с одной стороны, к убеждению в возможности представить «мир как текст», а с другой — к сведению «главной проблематики творчества» к взаимодействию «тела и текста» (Вл. Сорокин). И если в первом случае центральным персонажем произведения поистине является homo sapiens, т. е. человек разумный, мыслящий, то во втором — отправляющий физиологические потребности. И это отнюдь не метафора по отношению к сочинениям Вл. Сорокина, которые — ещё не будучи напечатанными — оказывались в числе претендентов на престижную литературную премию Букера… Об упомянутой потребности адепты постмодернизма (являющегося, если верить Вик. Ерофееву, «настоящим проявлением свободы», до которой «ни критик, ни читатель ещё … не дошёл») твердят часто, обуреваемые, по собственному признанию, желанием сокрушить свойственную русской литературе духовность — «пафос постижения мира, пафос Достоевского, Пушкина, пафос приоритета духовных поисков над поисками физиологическими» (Яркевич). О том, как протекает процесс смены упомянутых приоритетов, особенно отчётливое представление даёт творчество Вик. Ерофеева. При встрече с самодовольным героем (а в постмодернистском искусстве он принципиально отождествляется с автором) его сочинений трудно не вспомнить о трагической фигуре центрального персонажа поэмы Вен. Ерофеева «Москва — Петушки», страшной ценой расплатившегося за несовершенство мира» (4).
В работе «Русский постмодернизм» М.Н. Липовецкий анализирует исследования зарубежных авторов о постмодернизме в литературе — учение Р. Барта об интертекстуальности, в соответствии с которым всякий текст связан тысячами нитей с другими текстами, теорию Б. Гройса о стратегии автора постмодернистского текста на нивелировку своего присутствия в тексте, учение Й. Хейзинги об игре как главном факторе культурогенеза и др. Среди теоретиков постмодернизма М.Н. Липовецкий совершенно справедливо ставит на первое место тех, кто увидел главную черту постмодернистского (авангардистского) сознания — сознательное или бессознательное стремление к хаосу, которое выражается в деиерархизации системных представлений о мире. Он выделил среди них, в частности, Й. Ван Баака. «Как показывает Й. Ван Баак, — писал он, — концепция деиерархизации проявляется на всех уровнях поэтики авангардистского текста: «В предельных случаях деиерархизация может привести к тому, что сочетание элементов авангардистского мира представляется лишённым любой упорядоченности (аномия)». Но при этом все, даже, казалось бы, несоотносимые художественные элементы, находятся в состоянии непрерывного и непримиримого конфликта. В этой конфликтности исследователь видит отличительное качество авангардистской художественности. Постмодернизм, продолжая авангардистскую деиерархизацию, вместе с тем лишает её конфликтности: сочетания разнородных элементов теперь носят сугубо игровой характер, конфликт, если он и есть, то разыгрывается — симулируется, по сути дела. Благодаря постмодернистской игре авангардистская разорванность сменяется неустойчивой, условной, иллюзорной и всё же целостностью игровой вовлечённости, объединяющей гетерогенные элементы и коды текста» (5;19).
Постмодернистская картина мира сориентирована на хаотизацию научной и обыденной картин мира. Вот почему теоретикам постмодернизма пришлась по вкусу работа бельгийского химика русского происхождения, лауреата Нобелевской премии 1977 года Ильи Пригожина «Порядок из хаоса». Эта работа внушает оптимизм, поскольку её автор показал в ней, что состояние хаоса в той или иной системе рано или поздно переходит в состояние порядка. Экстраполируя эту идею на теорию познания, он пришёл к выводу о том, что и господство плюрализма (хаоса) в сознании людей, принадлежащих к той или иной эпохе, не может со временем не уступить место другой, в которой будет господствовать монизм (порядок). Он писал: «Концепция закона, «порядка», не может более рассматриваться как данная раз и навсегда, и сам механизм возникновения законов порядка из беспорядка и хаоса должен быть исследован… С одной стороны, как отмечалось, мы движемся к плюралистическому миропониманию. С другой — существует тенденция к поиску нового единства внутри явно контрастных аспектов нашего опыта» (5;34).
Выходит, таким образом, что постмодернизм рано или поздно уйдёт со сцены, как ушёл в своё время модернизм, поскольку его ведущая черта — хаотическое мировоззрение. Ему на смену рано или поздно придёт мировоззрение системное, как оно уже давно пришло в науку (в особенности — в синергетику). Постмодернистское искусство ведёт, так сказать, подрывную работу в движении людей к упорядоченной, системной, единой картине мира. Оно достигает определённого результата своими, художественными, средствами. М.Н. Липовецкий так охарактеризовывает постмодернистский метод или стратегию его представителей: «Тесное взаимодействие постмодернистской поэтики с мирообразом хаоса, выразившееся, в частности, в расшатывании и разламывании традиционных структур художественной системы, не обязательно приводит к рассыпанию художественного целого, возможен также путь формирования новой, «ризоматической», системности художественного целого. Эта системность основана на той художественной стратегии, о которой шла речь выше, — стратегии, нацеленной на поиск «рассеянных структур» хаоса, воплощённого в мирообразе культуры и ставшего поэтому субъектом равноправного эстетического диалога с автором. Диалог с хаосом — так можно обозначить эту художественную стратегию…» (5;43).
ЛИТЕРАТУРА
1. Культурология: http://www.countries.ru/library/twenty/index.html
2. http://www.altai.fio.ru/projects/group4/potok18/site/index.html
3. Энциклопедия для детей. Т. 9. Русская литература. Ч. 2. ХХ век. — М., 1999.
4. А.С. Карпов. Литература распада или распад литературы?: http://websites.
pfu.edu.ru/IDO/period/rudn/n1_98/about.html
5. М.Н. Липовецкий. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. — Екатеринбург, 1997.
Текст: Валерий Даниленко
Источник: Литературная учеба (ЛУ №3/2009)
