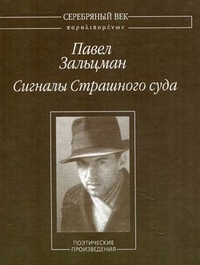 Открытие творчества Зальцмана заставляет нас в известной мере пересмотреть всю историю русской литературы XX века, полагает Валерий Шубинский
Открытие творчества Зальцмана заставляет нас в известной мере пересмотреть всю историю русской литературы XX века, полагает Валерий Шубинский
Примечательная деталь: многие значительные русские поэты середины XX века, «открытые» за последнюю четверть века, были при жизни в достаточной мере известны, но в иной области. Античник Андрей Егунов — и Андрей Николев, волшебно-летучий поэт и кривозеркальный романист; профессор Дмитрий Максимов, специалист по символизму, — и Иван Игнатов, автор «сильных и своеобычных», но «неприятных» стихотворений, по двойственному и на самом деле комплиментарному определению Ахматовой; добротный советский прозаик с немного формалистическим прошлым Геннадий Гор — и некая полубезумная, горящая и болящая сущность, воплотившая книгу блокадных стихов, местами приближающихся к гениальности. Во всех случаях мы имеем дело с альтер эго, иногда пестуемым, иногда почти от себя скрываемым, но отличным от бытового облика человека, от его социального «я».
Павел Яковлевич Зальцман был художником с относительно удачной судьбой — удачной с учетом эпохи, формалистического бэкграунда и анкетных данных. Сыну царского офицера немецких кровей и крещеной киевской еврейки ничего хорошего не обещали ни 1920—1930-е годы, ни военное время, ни период борьбы с безродным космополитизмом. Однако самым драматическим поворотом биографии Зальцмана стал переезд из Ленинграда в Алма-Ату, точнее, невозвращение из эвакуации, а в самые трудные для себя годы (конец 1940-х — начало 1950-х) он преподавал художественные предметы в алма-атинских учебных заведениях, что все же не было равносильно заключению или голоду. В остальное время он работал в кино, в последние тридцать лет жизни (1955—1985) — главным художником «Казахфильма», достаточно широко выставлялся и как станковист.
Зальцман входил в круг учеников Филонова, косвенно (биографически и эстетически) связанный с ОБЭРИУ, как и конкурировавший с ним круг Малевича. Cреди «филоновцев» он был одним из младших — и это существенно. 1912 год рождения — в каком-то смысле рубежный. Если воспринимать всю эпоху русского модернизма первой трети XX века — от символистов до обэриутов — как единый континуум, противостоящий подступившей затем советской эпохе (условно говоря, «серебряный век»), то человек, родившийся до этого рубежа, мог сформироваться и так, и эдак — в зависимости от множества объективных и субъективных факторов. Человек, родившийся позже, мог сформироваться только эдак, и уже ничего не мог напрямую унаследовать: мог только усвоить и освоить. (Это не имеет отношения ни к политической позиции, ни к уму, ни к нравственным качествам, ни даже к таланту: речь только о свойствах дыхания, голоса и уха, о доступе к накопленному за тридцать — сорок лет лирическому воздуху).
Зальцман, как и его одноклассник Всеволод Петров (искусствовед, талантливый прозаик и автор воспоминаний о Хармсе и Кузмине), был из стародышащих — о чем убедительно свидетельствуют его стихи 1920-х годов.
Под горой зеленая долина,
В лозняке ручей неуследим,
С очерета черного овина
Стелется вечерний дым.
Уплывает розовая глина,
Ускользает ветерок,
Аист поднимается с овина
И улетает на восток…
Это — 1924 год, двенадцать лет! Талант талантом, но свобода и точность владения языком и стихом такие, каких советские поэты следующих поколений добивались годами тяжкого труда.
Текст: Валерий Шубинский
Источник: openspace.ru
