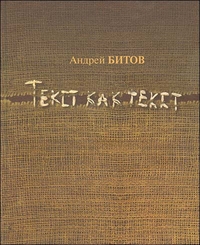 Отрывки из нового сборника Андрея Битова, выпущенного издательством Arsis Books
Отрывки из нового сборника Андрея Битова, выпущенного издательством Arsis Books
Андрей Битов. Текст как текст. ArsisBooks, 2010
Ещё есть категория «бессмертный», применяемая более к творениям, чем к их создателям, и лишь отчасти к их репутациям, с которыми мы ничего поделать не можем, которые прорастают сами, то есть действительно живут. Так что бессмертие — это судьба, то есть продолжение той же жизни, но уже за гробом. Не завершённая при жизни жизнь — бессмертна, и не оттого ли наши поэты предпочитали гибель, в которой мы, по традиции, виноватим общество?
Во-вторых, это именно он ничего не забыл…
«…и говорил себе, что никогда-никогда не запомнит и не вспомнит более вот этих трёх штучек в таком-то их взаимном расположении, этого узора, который, однако, сейчас он видит до бессмертности ясно…»
1. Ясность бессмертия
Человек, который наделил этим переживанием одного из своих героев, запомнил и запечатлел такое количество «штучек» и их расположений, что является бесспорным рекордсменом мира по этому виду памяти. Обладая той памятью, которой я обладаю, то есть вообще плохой, но ещё и ухудшенной образом жизни и историей, проведшей на моих глазах беспримерный геноцид деталей, странно браться за воспоминания о нём.
Впрочем, не надо путать память с воображением, так же как воображение с фантазией. Память и фантазия противостоят друг дружке — по сторонам реальности. Воображение и есть реальность. Поэтому реальность никуда не девается, не пропадает в прошлом, не исчезает в будущем. Бессмертие невообразимо, воображение — бессмертно.
В-третьих, весной 1999 года, когда (в который раз!) возрождающуюся Россию охватил тошнотворный вал всеобщей обязательной подготовки к пушкинскому юбилею (на этот раз к двухсотлетию со дня рождения), ещё более раскалённый стократно предновогодним нетерпением окончания XX века, — столетие со дня рождения Владимира Владимировича Набокова (1899—1977) прошло как-то между прочим, почтительно и незаметно, зато в каком-то смысле и более достойно. И впрямь, за предшествующие десять лет был набран обширный новый опыт празднований столетних юбилеев классиков уже не XIX, а XX, собственного, века: Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Маяковский, Есенин, Зощенко следовали один за другим, как патроны в обойме. Выстрелы слышались всё глуше. Страна уставала от признания, празднования становились всё более академическими, пафос сменялся культурой. Пушкинский юбилей всколыхнул своего рода ностальгию по пышным юбилеям эпохи тоталитаризма, выпавшим в основном на долю классиков века XIX. Произошла, выражаясь языком физики, интерференция, помрачение салютом, свет погасил свет. Набоков оказался, в очередной раз, в тоталитарной тени, как и при жизни.
Но не надо и преувеличивать, это была уже тень от тени. Затмение даже не солнечное, а лунное (кто лучше, чем он, описал закопчённое на керосиновой лампе стёклышко, через которое смотрят на затмение мальчик и девочка из соседних дореволюционных усадеб?., измазана бровь — неожиданное проявление брюнетки в блондинке, — а у мальчика скорее всего нос — попытка помочь друг другу стереть сажу должна кончиться первым поцелуем… нет, кажется, как раз и не поцеловались, но затмение проморгали… Где это у него? убей, не помню) — не надо преувеличивать и того, что плохо помнишь: это был сугроб, именины, а не затмение (рассказ «Весна в Фиальте»).
Как бы то ни было, на высшем уровне оказалось объявлено, что Набоков окончательно вернулся на родину, включая переводы с английского и французского (имелась в виду вышедшая малым тиражом «Ада»). Однако объявленное полное собрание не вышло и первым томом, но ведь и Эллендея Проффер (Анн Арбор, Ардис) не успела закончить набоковское собрание, и академический Пушкин не поспевал к двухсотлетию…
Несколько более широко, чем где бы то ни было, юбилей Владимира Владимировича прошёл на берегах Невы. Университет имени Александра Блока почтил уроженца Петербурга международной научной конференцией, отмеченной весьма тонкими сообщениями, из которых особо следует выделить профессора Присциллу Мейер (Уэслиан, Коннектикут), блистательно приоткрывшую (в который раз!) очередной набоковский потайной ящичек (на этот раз не в «Бледном огне», а в «Посмотри на арлекинов!») без признаков взлома или отмычки.
Всё это было отрадно. Доступность Набокова, когда его безобразно распечатывали в провинции (с бездной опечаток!), когда готовилась русская киноверсия «Лолиты» (так и не снятая), оттолкнула истинных поклонников. Но пусть схлынул массовый читатель, зато на отмели удержались самые верные, и им стало, при всей скорби о недостаточном поклонении своему кумиру, по-своему комфортно (как когда-то, в 70-е…) ощущать себя посвящёнными и единственными. Помните, в постскриптуме к русскому изданию «Лолиты»:
«Но что мне сказать насчёт других, нормальных, читателей? В моём магическом кристалле играют радуги, косо отражаются мои очки, намечается миниатюрная иллюминация — но он мало кого мне показывает: несколько старых друзей, группу эмигрантов (в общем предпочитающих Лескова), гастролёра-поэта из советской страны, гримёра путешествующей труппы, трёх польских или сербских делегатов в многозеркальном кафе, а совсем в глубине — начало смутного движения, признаки энтузиазма, приближающиеся фигуры молодых людей, размахивающих руками… но это просто меня просят посторониться — сейчас будут снимать приезд какого-то президента в Москву».
На этот раз его встречали.
Кому-то даже показалось, что, прозрачный, спускался он к нам по небесному трапу.
Однако у меня создалось впечатление, что и на этот раз не столько мы недостаточно почтили Владимира Владимировича, сколько сам он запасливо от нас скрылся. Будто это не мы — о нём, а он сам прочитал нам очередную свою лекцию о Гоголе, на этот раз на собственном примере, «…как бы прекрасно ни звучало это финальное крещендо («Эх, тройка! птица тройка…» — А. Б.), со стилистической точки зрения оно всего лишь скороговорка фокусника, отвлекающего внимание зрителей, чтобы дать исчезнуть предмету, а предмет в данном случае — Чичиков».
XXI век! Цифра звучала счастливо: двадцать одно, очко, удача игрока… Что ж, удача это и была — пережить-таки кровавый XX, дождаться смены цифры на спидометре. «Век был неплох», — как сказал поэт. Никому не было жаль будущих школьников, которым предстояло каждый день в тетрадях выводить двойку впереди года — очередную тысячу лет… Что это за года такие пошли после двухсотлетия со дня рождения Александра Сергеевича, более похожие на очередную марку «жигулей» (они всё ещё выпускались в России), чем на годы?.. 2001, 2002,2003, 2089… Ну, это ничего. Единица впереди, конечно, лучше, хотя 21 лучше 20, зато 22-й век грозит перебором, зато тройка впереди спасёт. Всё-таки календарное торжество как-то заслонило другой юбилей — двухтысячелетие со дня рождения Христа…
Не знаю, как спорили в год рождения Владимира, какой год считать концом XIX, а какой началом XX — 1899? 1900? 1901? но в 1999 году по этому вопросу возникла всемирная дискуссия (не просто смена веков, но — тысячелетий!..) — 1999? 2000? 2001? Математика разошлась с психологией, и общественное, автомобилизированное мнение победило: отмечалась всё же смена цифры на спидометре. Не как конец, а как начало. Конец века отмечался два года, 1999-й и 2000-й, и начало века отмечалось дважды, в 2000-м и 2001-м.
Различие западной и российской ментальности сказалось и тут: нам, как всегда, нравилась более круглая сумма, американцам, по традиции ценообразования, — много девяток (без одного цента).
Отвлечение это не в сторону, поскольку мы говорим о дне рождения Набокова (и Пушкина в скобках). Пушкин успел родиться в XVIII веке, а Набоков, через сто лет, — в XIX, хотя каждый из них олицетворяет собой век следующий. На той же конференции академик Л. Н. Одоевцев, сделавший любопытное сообщение о набоковском переводе «Евгения Онегина» на английский, а также исследователь из Мытищ А. Боберов, оспоривший в своём докладе дату рождения В.В. Набокова, вступили в примечательный диспут: в 1899,1900 или 1901 году родился юбиляр? А. Боберов оспаривал 1899 год категорически, выдвигая более поздние даты, но был убедительно опровергнут — его подвело слабое знание английского (как в своё время — итальянского, в его нашумевшей гипотезе о «Божественной комедии»). Любопытно также, что всё это произошло на фоне всероссийской (очередной) дискуссии о подлинном месте и подлинной дате рождения Пушкина (26 или 27 мая и по какому стилю отмечать).
Дело в том, что Владимир Владимирович, щепетильный до брезгливости сторонник точности, в своих прижизненных изданиях, как на английском, так и на русском, так и в переводах, которые мог контролировать, допускал неоднократно одну и ту же неточность (на мой взгляд, сознательно), а именно — в дате своего рождения. Это он-то, в одном из редких своих интервью (журналу «Вог», 1969, по поводу выхода «Ады») заявивший на вопрос (бесспорно его раздраживший журналистской пошлостью), что бы он хотел пожелать будущей литературе, — «Ничего. Разве чтобы в моих последующих изданиях, особенно в мягких обложках, были исправлены немногочисленные опечатки». Ошибка в дате рождения — пример такой «опечатки». После успеха «Лолиты» все романы Набокова выходили в популярной и престижной серии «Пенгвин букс». Под обложкой, на первой же странице, в этой серии полагается краткая биография автора. В полутора десятке книг Набокова этой серии, которые я видел, биография перепечатывается слово в слово, лишь с одной настойчивой опечаткой— 1899,1900,1901 год рождения. Не могу утверждать, что он сам ввёл эту опечатку, но, зная его мистификаторский гений и склонность доставлять себе мелкие, личные удовольствия в тексте, можно с уверенностью предполагать, что он эту опечатку «поддержал», пропуская.
Приведу эту биографию (издание того же года, что цитированное выше интервью, — 1969): «Владимир Набоков родился в Санкт-Петербурге (теперь Ленинграде) в 1901 году. Его отец был хорошо известный либеральный и государственный деятель. Когда пришла революция, для него началась долгая цепь странствий, во время которой он изучал романские и славянские языки в Кембридже, который закончил в 1922-м. Затем он жил на континенте, преимущественно в Берлине, и заново утвердил себя как один из наиболее выдающихся писателей русской эмиграции.
В 1940 году он и его семья переехали в Америку, где он стал преподавать в Уэслианском колледже, в то же время занимаясь исследованиями по энтомологии в Гарварде. Позднее он был профессором русской литературы в Корнеллском университете в течение одиннадцати лет.
Лучшие из его рассказов собраны в «Набоковской дюжине»; их можно приобрести в серии «Пенгвин», так же как и романы «Пнин», «Смех во тьме», «Истинная жизнь Себастьяна Найта», и «Приглашение на казнь», и «Говори, память», автобиографию. Его другие романы — «Под знаком незаконнорождённых», «Лолита», по которому был снят фильм и который принёс ему мировую славу, «Бледный огонь», «Отчаяние» и, последний, «Король, дама, валет» (1968). Он также опубликовал переводы из Пушкина и Лермонтова и биографическое исследование о Гоголе.
Владимир Набоков, который сейчас проживает в Швейцарии, женат и имеет одного сына».
Я сознательно не совершенствую перевод (слово в слово), включаю даже неточности, — в своей лапидарности он наиболее выразителен.
Автор, даже Набоков, никогда не бывал главным в издательском деле. Переведём теперь это на русский язык.
На Западе биографии писателей после смерти не меняются. Вырос лишь перечень книг, вышедших в этой серии, да последняя строчка… Не живёт, а умер.
Владимир Владимирович Набоков умер в Швейцарии, в городке Монтрё, 2 июля 1977 года. Как не преминули отметить «набоковисты», В.В. похоронен в Веве 7.7.77, будто это именно им был послан последний привет великого мастера литературной игры. И впрямь семёрка — коса — означает иной раз «смерть» в домашних, дачных карточных гаданиях.
Родился же Владимир Набоков в Санкт-Петербурге всё-таки в 1899 году. «Либеральный деятель» в переводе на русский означает член I Государственной думы от кадетской партии, впоследствии управляющий делами Временного правительства. В этом качестве он имел отношение и к отречению Николая II. Семейству Набоковых принадлежал также один из первых автомобилей в Петербурге — одно из богатейших семейств… Владимир Дмитриевич был англоман: в английском магазине покупались все дорогие и модные новинки, как, например, походные надувные ванны, не говоря о ракетках, велосипедах и прочем спортивном инвентаре, включая сачки для бабочек.
Всё, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный…
Всё это прекрасно описано самим Набоковым в «Других берегах». И это немаловажно отметить: ещё одна черта его образования как прозаика. Ибо мир вещей, привычный ему с детства как данность, никогда не поразит его в Европе, никогда не станет предметом переживаний неимущего (нищего по сравнению с дореволюционной жизнью), зато вещи как деталь описания, как изделие будут подвластны ему в той же степени, как и мастеру, их изготовившему. Читая, вы будете ощущать эти предметы на ощупь, даже не имея ранее о них никакого представления. Чего стоят хотя бы сетования Набокова в послесловии к русской «Лолите» о невозможности перевода спортивных терминов на родной язык:
Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет…
«Евгений Онегин» тут тоже при чём. В конце концов, «философом в осьмнадцать лет» Владимир встретит русскую революцию на сто лет позже Евгения. Соотношения и тайные соответствия с Онегиным протянутся через всю его жизнь, особенно выявившись в его позднем иноязычном творчестве (не говоря о четырёхтомном комментированном издании перевода пушкинского романа на английский).
Набоков сам называл себя английским ребёнком — у него, ясное дело, была своя англичанка, и её язык сопутствовал ему с младенчества, как и язык матери. Французским он владел столь же свободно. Так что все три языка он вывез ещё из России пригодными как для общения, так и для писания. И этого барьера, уже не имущественного, а языкового, преодолевать ему не пришлось.
И все свои хобби — бабочки, шахматы, спорт — Набоков также вывез из Петербурга, из России, из своего детства.
Он вывез детство и юность, счастливые, как у принца, первые стихи, первую любовь… Дом в Петербурге на Морской, усадьбу в Рождествене под Петербургом, лето в Ялте… Весь этот импорт мы обнаружим позднее в его прозе: рассказы «Обида», «Лебеда», «Совершенство», повесть «Другие берега» и… повсюду.
Он отбыл из России с родителями, из того же Крыма, в апреле 1919-го, двадцати лет от роду — навсегда. Та жизнь кончилась с внезапностью то ли несчастного случая, то ли убийства. Новую он, кажется, никогда не начинал. Она — в книгах.
Набоков не эмигрант. (Боже упаси! я не хочу оправдать его таким образом ни в чьих глазах…) Это его судьба. Но и не только. Судьба есть линия одной жизни, как угодно ломанная, под каким угодно, хоть острым, хоть обратным, углом продолжения. У Набокова это послесмертие. В послесмертии уже не живут, а присутствуют, никем не замеченные, и всё видят. Сам переход от жизни к смерти у Набокова всегда переход от чувства, достаточно слепого и бедного деталью, к зрению, ею загромождённому и перенасыщенному.
Сама смерть легка, даже забавна. Смешно, что человек никогда не узнает, что умер.
Не так ли молодой влюблённый никогда не узнает, что невеста ушла от него, потому что попадает под трамвай (рассказ «Катастрофа»)? Не так ли Картофельный Эльф умрёт, так и не узнав, что его внезапно обретённый сын уже мёртв? Это даже счастье, а не смерть. Один рассказ даже так и назван — «Совершенство», о том, как учитель утонул, спасая ученика, тайно оповещённый в секунду смерти, что тот не умер. Не так ли Смуров удивится после самоубийства силе мёртвого воображения, воссоздающего покинутый мир с полнотою и точностью самой жизни (повесть «Соглядатай»)? И кто стал прозрачным, мир или Смуров? Кто кого не замечает? Непрозрачным станет Цинциннат в «Приглашении на казнь», но это уже приговор…
«Есть острая забава в том, чтобы, оглядываясь на прошлое, спрашивать себя: что было бы, если бы… заменять одну случайность другой, наблюдать, как из какой-нибудь серой минуты жизни, прошедшей незаметно и бесплодно, вырастает дивное розовое событие, которое в своё время так и не вылупилось, не просияло. Таинственная эта ветвистость жизни: в каждом былом мгновении чувствуется распутие, — было так, а могло бы быть иначе, — и тянутся, двоятся, троятся несметные огненные извилины по тёмному полю прошлого» («Соглядатай»).
Что было бы, если бы?.. Если бы Сиваш, скажем, не подсох в 1920-м? Что было бы, если бы красные не пересилили белых и была бы непонятная, послевоенная, послереволюционная Россия, вяло переползающая в буржуазную республику, понемножку теряющая свои имперские очертания и обретающая исконные? Не знаю, что было бы. Вариантов у Истории не бывает. Есть единственный, которого мы не постигаем. Что было бы?.. Да не было бы деления на литературу советскую и эмигрантскую хотя бы. Эмигрантская не замерла бы в бесконечной ностальгии, а советской бы не было (а жаль! какая такая литература без Платонова и Мандельштама…).
Какой могла бы быть русская литература после Чехова и Блока, после Серебряного века и символистов, непрерывная, непрерванная?
Набоков и есть отсаженная ветвь той гипотетической литературы, проросшая сквозь культуру в цивилизацию.
Поэтому русская литература после 1917-го делится на советскую, эмигрантскую и… Набокова (я их не выравниваю и не сравниваю, тоже, Боже упаси…).
Налегке, с шахматной доской и сачком под мышкой, Набоков вывез из России самый большой багаж—не тронутую ни зрелым опытом, ни писательским отражением нераспечатанную юность, непочатый элементарный опыт бытия.
Всё это позволило ему не стать эмигрантом.
Из России он прибыл в Англию, с детства привычную, хотя бы и непосещенную страну, чтобы как бы продолжить (после Тенишевского училища) образование. В Кембридже (которому он посвятил дивные страницы в «Подвиге» и «Других берегах») он в белой рубашке апаш ловил бабочек, играл в теннис, грёб на лодке по каналам и изучал, как сказано выше, романские и славянские языки (учиться ему было как бы и нечему, и учение, надо полагать давалось ему легко). Он окончил Кембридж за три года. Лет этак через шестьдесят шесть мне довелось посетить те же места. Тамошний русист с гордостью сообщил мне, что вычислил по набоковским описаниям квартиру, в которой тот жил. Он показал мне окна на третьем этаже, возможно, те самые. Дом был серый, даже чёрный для Кембриджа, и невзрачный. Сердце моё не забилось. Равнодушно я опустил глаза, чтобы увидеть в витрине первого этажа перекрещенные две ракетки с теннисными же рассыпанными мячиками. Привет от Лолиты!.. Её герб. Порадовавшись чисто набоковскому намёку, мы с русистом заглянули и в колледж по соседству, в котором один когда-то учился, а другой нынче преподавал. Какое счастье — средневековые эти дворы, с их газонами (теми самыми, про которые каждый русский знает, сколько им лет) и фонтанами!
Этот был поменьше, зато куда ярче прочих. Такого буйного и яркого соединения цветов (как растений, так и красок) мне ещё не доводилось видеть. Я подумал с неудовольствием, что студент Набоков уж точно знал имя каждого цветка. Цветы были так красивы, что, как и газоны, росли триста лет. Такими же их видел Набоков, годившийся мне теперь в сыновья, их посеяли при Ньютоне. Но и это нет, цветы были прихотью сторожа колледжа, явно при Набокове ещё не служившего. Нас обогнал бодрый и древний старик, и я ещё понадеялся, что этот мог бы быть сторожем при Набокове. Но и это нет. Как пояснил мне русист, это был старейший профессор Кембриджа, лет около ста, преподающий здесь лет более семидесяти. Нет, Набоков таки не любовался теми же цветами!
— А что же можно преподавать так долго? — спросил я без любопытства.
— Он энтомолог, специалист по бабочкам.
— Так он же помнит Набокова! — возликовал я.
— Он ничего не помнит, — сказал русист.
Старик продолжал нас стремительно обгонять, оторвавшись уже метра на два. То ли он нас не слышал, то ли не видел, то ли мы говорили по-русски. Так, наверно, проходят сквозь текст Смуровы, Цинциннаты, как он прошёл сквозь нас. «Он мог всё забыть, но старики особенно помнят, что было в молодости. Не мог он забыть русского студента, наверняка наведывавшегося к нему со своими крымскими бабочками!» Я невольно посмотрел вверх, будто там мог пролететь сам Набоков под видом мотылька. Его там не наблюдалось — лишь чистый голубой квадрат неба.
— Слушайте, — теребил я русиста. — Его непременно надо допросить — это же уникальный мемуар!
— Да, да, — неохотно соглашался русист, будто расспрашивать старика всё-таки не стоило. Мы были как-никак в Англии. Старик скрылся в какой-то секретной дверце, провожаемый моим жадным взглядом.
Набоков с особой гордостью включал в свою библиографию под номером первым как первую публикацию статью 1920 года о бабочках Крыма (опуская как несуществовавшую свою гимназическую поэтическую книжку, думаю, не столько стесняясь, сколько для чистоты жанра: чтобы в России ничего им написано не было).
В 1922 году от пули террориста погиб отец (успел заслонить своим телом Милюкова, которому пуля предназначалась).
Если собственная смерть у Набокова не страшна, то чужая смерть, смерть другого страшна очень. Страшно за родителей, ещё не знающих о смерти дочери, страшно за их зятя, которому надо об этой смерти им сообщить (рассказ «Возвращение Чорба»). Страшно за бедную еврейскую маму, суетящуюся насчёт чая неожиданным гостям, пришедшим сообщить о смерти единственного сына (рассказ «Оповещение»). И невыносимо разрывает читательскую душу рассказ об отце, потерявшем сына — это больше, чем смерть, — смертельное бесчувствие отца взрывается рыданиями, когда зимней русской ночью из кокона в коллекции мёртвого сына выходит живая экзотическая бабочка. Смерть в этих несчастных рассказах настолько страшна, что её тоже нет. Она не уместится в сознании.
Кто же это всё умирает и умирает в рассказах Набокова — так легко для себя, так страшно для окружающих? Набокова вроде не спутаешь с его героями, не уличишь (он бы этого не потерпел) в автобиографизме, но легко помирает — автор, а страшно — всё тот же маленький Путя, однажды уже переживший что-то вроде набоковской лёгкой смерти, когда его все забыли при игре в прятки и он ощутил, что исчез, стал непрозрачен, как будущий Цинциннат («Обида»).
В рассказе же «Лебеда» сам Путя не может пережить гибель отца, которая счастливо не состоялась и разрешилась теми же рыданиями.
Кто же стал прозрачен, кто же умер, у кого умерли?
Погибла Россия, погиб отец, сам Набоков стал прозрачен в послерусском послесмертии, как мальчик в чужом саду.
Кто виноват? Набоков не разбирается в этом — он не любит их.
Они — это целый ряд литературных героев. Эмигранты, немцы, разночинцы — убийцы, садисты, тираны — они. Тема хама и насилия (рассказы «Лебеда», «Хват», «Круг», «Королёк», «Лик», «Истребление тиранов», «Облако, озеро, башня») навязчива, как тема смерти в рассказах его и романах. Никаких упрёков истории, социуму или политическим системам у Набокова нет — высокомерное раздражение на самого себя: досадное, напрасное, — психологическая неотвязность ненужного, чуждого человека в жизни. Гамма навязанных лирическому герою Набокова чувств по отношению к ним колеблется от ненависти до жалости и нежности (рассказы «Лик», «Круг»). «Круг» назван так не только по совпадению закольцованных сюжета и формы, но и по драматическому несовпадению героя рассказа с кругом Набокова в более светском смысле слова (здесь встретим мы впервые упоминание о Годунове-Чердынцеве, отце героя будущего романа «Дар»). Именно в «Круге» Набоков испытал возможность оптимального сочувствия к своему оппоненту. Герой рассказа любит (как всякий плебей, по-своему) Годуновых-Чердынцевых, они его готовы (и всегда не готовы, как люди своего круга) принять, но всё-таки именно он не может перейти к ним, а не они (на этот раз «они» — наоборот) его не пускают. Он как бы от природы прирос к чему-то большему, им отвергаемому и нелюбимому, чего он стыдится, — к некой тёмной и слитной породе (в геологическом смысле), как кристалл. Набоков справедлив по-своему: один лишь классовый подход ему чужд. Люди такой породы встречаются в любой породе, разночинный дух поражает и дворянина: «Надумает нищий духом, что весь путь человечества можно объяснить каверзной игрою планет или борьбой пустого с туго набитым желудком, пригласит к богине Клио аккуратного секретарчика из мещан, откроет оптовую торговлю эпохами, народными массами, и тогда несдобровать отдельному индивидууму, с его бедными двумя «у», безнадёжно аукающимися в чащобе экономических причин» («Соглядатай»).
Попытка быть справедливым не сделает человека демократичным. Впрочем, принадлежность черт не может быть недостатком. Недостатком является их непринадлежность. Отношение героев Набокова к своим антиподам, колеблющееся от ненависти и презрения до жалости и почти любви, можно назвать комплексом, но лучше назвать страхом. Набоков проклял бы каждого, примеряющего к нему ненавистное слово «комплекс». Ядовитые выпады против Фрейда и всей венской делегации пронизывают всё его творчество.
Природу этой неприязни легко и не надо истолковывать. Очень уж просто было бы накрыть набоковские построения о противостоянии смерти и исчезновении этим примитивным понятием. Не будучи ни знакомым, ни представленным, Набоков на своих страницах демонстративно не подавал руки человеку, который гибель родины и гибель отца обозвал бы комплексом.
Как-то раз и я встретил человека, заявившего, что и вся Россия — не более чем мой комплекс. Наверное, я не мог его опровергнуть, наверно, я сорвался в обидную, досадную, оскорбительную (мне), безнадёжную грубость. Не помню сейчас, где и при каких обстоятельствах (во второй, английской половине творчества) пытается набоковский герой объяснить непонятное иностранцу русское слово poshlost, и даже Набокову это не удаётся.
В этом очерке я опираюсь лишь на «второстепенного» Набокова, и это недаром. Романы возвышаются в его творчестве этаким Эльбрусом с двумя вершинами — русской и английской, — мне здесь не пройти и траверсом, я обойду их вокруг, с камушка на камушек. Возможно, как раз в том, чему ни он, ни мы не придали такого значения, он и сказался в наибольшей степени как человек, а не как мастер. И уж точно, что именно в рассказах и стихах находим мы эскизы ко всем его великим романам.
Впрочем, почти все рассказы и стихотворения написал не Vladimir Nabokov, а В. Сирин, в своей первой, русской половине творчества. Кроме этого, он написал по-русски романы «Машенька», три квазинемецких романа—»Король, дама, валет», «Камера обскура», «Отчаяние» — и такие шедевры, как «Подвиг», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар». Итого восемь. Всё это после Кембриджа, уже в Германии. Литература плохо кормит: Сирин пишет, Набоков подрабатывает. Какими только уроками он не подрабатывает, включая теннис (что особенно любит впоследствии помянуть)!
Вообще у этого сноба, у этого эстета, у этого недемократа, у этого неэмигранта потрясающе трудовая (по сравнению с любым современным ему автором) жизнь. Литературная независимость не только в индивидуальности почерка, но и в поведении настолько полная, что за это приходится платить (тем же трудом). Он ещё и бабочек не забывает никогда. И как шахматный композитор выступает.
Отношения с эмигрантами-литераторами не складываются. Русская манера, усугубленная эмиграцией, сплачиваться и рассыпаться на лагеря, кружки и кружочки ему не импонирует. Друзей у него нет. Писателей его ранга в его поколении не наблюдается. Со старшими то же. Они вывезли из России свою табель о рангах и остановились в ней. И с Буниным, сразу высоко оценившим его талант (с этим, по-видимому, связано редчайшее в практике Набокова посвящение в прозе — в рассказе «Обида»), отношения довольно быстро не сложились (превосходная по точности сцена в «Других берегах»). «Я всегда предпочитал его удивительные струящиеся стихи той парчовой прозе», — напишет о Бунине Набоков. И только, наверно, к Ходасевичу сохранит он на протяжении всей жизни благодарное и ровное отношение (Ходасевич напишет превосходно о Сирине в 1930-е, а Набоков провозгласит его первым русским поэтом века в 1960-е).
Но одиночество Набокова не обречённое, не тоскливое, а им избранное — счастье семьи и труда, — на которое ему хватает духа. Да и какое общество в послесмертии? Ему хватает его Веры (ей он посвятит все свои книги), его сына Дмитрия, его бабочек, шахмат, не читанных, не перечитанных и не написанных только им книг.
Развитие писателя в эмиграции — тема весьма сложная и проблематичная. Набоков не продолжал, а начинал писать. Старшие замирали в изгнании, младшие не находили продолжения. Гениальный талант Набокова требовал развития. После «Дара» Набокову стало нечего делать.
И послесмертие кончилось.
Из фашистской Германии он в 1937 году переезжает в Париж (СПАСАЯ ЖЕНУ). Здесь он пробует покинуть русский язык, сбиваясь с английского на французский (первая проба будущей «Лолиты» и глава из будущих «Других берегов»), и в 1940-м переезжает в Америку.
И это сравнимо с 1919-м.
Снова морская вода отделяет жизнь от жизни или после-смертие от послесмертия (жизнь всё равно осталась тогда, там). Эти две его «послежизни» поразительно симметричны, но и не похожи. Не похожи принципиально, как принципиально отличие левого от правого или объекта и отражения. Эти два творчества — русское и английское — симметричны, как
крылья бабочки.
Решимость, с которой Набоков сам поменял жизнь, ни с чем не сравнима в практике мировой литературы и равнозначна лишь той исторической решимости, которая без его воли, сама поменяла ему жизнь. Из Европы отплыл Сирин — к американскому берегу причалил Набоков. Большой русский писатель стал начинающим американским. Самое великое своё достояние — русский язык, в котором ему уже не было равных, он пожертвовал языку своей гувернантки.
Первый англоязычный роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта» симметричен последнему русскому— «Дару». Как романист Набоков вооружён восемью русскими романами, он изощрён как композитор, ему всё подвластно; как прозаик он лишь начинает и пишет почти на ощупь. Эта ощупь очень видна в изощрённости приёма, в параметрах исчисленного автором повествователя. Если в «Даре» герой — писатель, молодой и непризнанный гений, то в «Себастьяне Найте» — тоже как бы начинающий писатель, но гений не заявленный, заворожённый бытием родного брата, писателя великого, прослывшего тончайшим стилистом на неродном ему языке (но на родном никогда и не писавшего… модель Джозефа Конрада). Это роман-воспоминание, роман-следствие, роман-биография. Повествователь же, занимавшийся до того лишь техническими переводами, никогда беллетристику не пробовавший, как бы застрахован этим от упрёков читателей в недостаточной
изощрённости английского, в полной мере воплощённой в творчестве брата. Стремление выяснить окончательно мучительную тайну их взаимоотношений на протяжении жизни приводит повествователя в финале к постели умирающего брата. Ему удаётся подменить сиделку. Всю ночь он просидел у постели, держа руку спящего в своих и проникаясь чувством прощения и любви настолько, что в темноте по ошибке он просидел у чужой постели; брат тем временем скончался в соседней палате. Но за ту же ночь герой прожил более реальную жизнь и почувствовал в себе брата. И кто умер, а кто остался, он уже не знает. Не передал ли брат ему своё бессмертное мастерство?
Этот не самый знаменитый роман Набокова очень важен для попытки постичь феномен перехода с языка на язык. Смерть, так напоминающая смерти из сирийских рассказов… Умер Сирин — родился Набоков. Кто кого держал за руку в момент написания романа? Сирин Набокова, Набоков — Сирина?
Крыло бабочки отразилось в собственном крыле.
Следующий роман «Под знаком незаконнорождённых» в чём-то симметричен «Приглашению на казнь» и «Истреблению тиранов».
Набоков пишет и профессорствует, обеспечивая семью, бабочек и романы. Роман «Пнин» — о русском бестолковом одиноком профессоре, всю жизнь безнадёжно любящем единственную женщину и её, не его, сына, осуществившем несуществующую любовь, — расскажет нам, конечно, не о Набокове, но о том, чего стоило ему его профессорство, и что такое жизнь русского в Америке — мы поймём. В.Л. Казем-Бек, профессорствовавший в то же время с Набоковым, на мои расспросы рассказал мне немного: «Ни с кем не общался. Коттедж его резко выделялся среди прочих образцовых профессорских коттеджей с их цветочниками, газончиками и кирпичными дорожками. Участок его порос настоящими русскими лопухами и крапивой, и дом облупился. Изредка на крыльце объявлялись две русские тени в халатах, на вид ещё дореволюционных». «Пнин»—единственный среди английских роман-характер (сюжет равен характеру), так же как и «Защита Лужина» — единственный роман-характер среди его русских.
Двигаясь вспять по цепочке русских романов Сирина, Набоков набирает силу. Русские подобия, молодея, слабеют; английские — достигают зрелой мощи. Несмотря на внешнее сходство сюжетов «Камеры обскуры» и «Лолиты», сравнивать их нельзя уже по уровню (как поначалу нельзя было сравнивать «Себастьяна Найта» с «Даром»).
«Лолитой» Набоков завоевал мир. А вместе с ним и право на всё, что он написал до, и на всё, что напишет после. Завоевал он и покой: «С тех пор как моя девочка кормит меня…».
В 1959-м Набоков возвращается в Европу.
Он ещё напишет «Бледный огонь» и «Аду», «Прозрачные вещи» и «Посмотри на арлекинов!».
Карл Проффер, которому Набоков передал право на переиздание русских романов (право на Сирина) и который поэтому встречался с ним неоднократно, в том числе и незадолго до смерти, рассказывал, что в кабинете Набокова царили чистота и пустота. Всё систематизировано и разложено по папкам, и ни одной, даже чистой, странички на столе. (Такой же порядок запомнили современники в последний год Блока…).
Всё было исполнено.
Бабочка сложила крылья. Будто на всё ещё тёплом камне Крыма, так и не остывшем с 1919-го.
С 1919-го у Набокова никогда не бывало дома… Кельи Кембриджа, нумера в пансионах, съёмные квартирки, профессорские коттеджи и роскошный «Палас-отель» в Монтрё.
Такой дом, какой был у Набокова, бывает у человека лишь один раз. В Петербурге, в Рождествене, в России…
Два раза (не считая английских лекций по русской литературе и переводов с русского на английский) возвращался Набоков из английского в русский язык. Написав свои мемуары сначала по-английски, он сел их переводить на русский, но связь русского материала с русским языком была столь велика, что преодолевала речь английскую, и книга оказалась не столько переведена, сколько переписана. Можно считать её последней его книгой, писанной по-русски. В другой раз сел он переводить свой лучший английский роман «Лолита», не доверяя свою девочку другим переводчикам. Грустно звучит послесловие к русскому изданию: «История этого перевода — история разочарования. Увы, тот «дивный русский язык», который, сдавалось мне, всё ждёт меня где-то, цветёт, как верная весна за наглухо запертыми воротами, от которых столько лет хранился у меня ключ, оказался несуществующим, и за воротами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадёжной дали, а ключ в руке скорее похож на отмычку».
Там же, в конце послесловия, содержится горькая ирония по поводу его намерений (мечтаний? фантазий?) посетить когда-либо Россию по подложному паспорту в качестве делегата на конгресс энтомологов (ещё менее возможное для СССР того времени допущение!):
Качурин, твой совет я принял
и вот уж третий день живу
в музейной обстановке, в синей
гостиной с видом на Неву.Священником американским
твой бедный друг переодет,
и всем долинам дагестанским
я шлю завистливый привет.От холода, от перебоев
в подложном паспорте не сплю:
исследователям обоев
ли леи и лианы шлю.
Не спит, на канапе устроясь,
коленки приложив к стене
и завернувшись в плед по пояс,
толмач, приставленный ко мне.
(«К кн. С. М. Качурину»)
Он приблизился к России на ленинскую дистанцию (Швейцария).
Но его герои туда ходили.
В рассказе «Посещение музея» герой, вырываясь из бреда беспорядочно накопленной, мёртвой материальной культуры (в каком-то смысле этот бредовый музей — пародия на затхлый уголок провинциальной Европы 30-х годов), внезапно оказывается в голом, ночном, снежном пространстве России и ареста. Рассказ этот находится в близком родстве с «Приглашением на казнь», где та свобода, которую оберегает Цинциннат во время исполнения приговора (отвернулся от палачей и пошёл к толпе, встречающих его «своих»), очень напоминает возвращение на родину. Родина — это не только территория и не только казнь, это уже казнённые «свои».
Казнь отпускает человека на родину.
Тут кроется вовсе не мистический или символический секрет многочисленных исчезновений, растворений, испарений русских героев Сирина — тайна его удивительно просветлённых и нестрашных смертей. Возвращение на родину есть смерть, но и смерть есть возвращение на родину, на подлинную родину «своих», на свою родину.
Не метафорой, а сюжетом стало это в романе «Подвиг» (признаться, моем любимом), где герой Мартын задумывает и исполняет возвращение в Россию, сознательно (как сказали бы мы) идёт на смерть, и это не самоубийство от несчастной любви, а подвиг. (Набоков довольно часто, отделив близкого ему героя от себя, придаёт ему заведомо несхожие черты — то пьяницы, то фальшивомонетчика… На Мартыне маска нелюбимости и бесталанности — тоже синонимы своего рода.)
В стихах всё это без маски:
Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывёт кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.
………………………………….
Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звёзды, ночь расстрела
и весь в черёмухе овраг.
(«Расстрел»)
В одном из последних (если не последнем) сирийском рассказе, написанном уже в Париже в 1939 году, поэт Василий Шишков (тот же Мартын, но зрелый и талантливый), разочаровавшись в конечной, абсолютной затее создать журнал «Обзор Страдания и Пошлости», рассуждает так:
«Вопрос шире, вопрос безнадёжнее. Я решал, что делать, как прервать, как уйти. Убраться в Африку, в колонии? Но не стоит затевать геркулесовых хлопот только ради того, чтобы среди фиников и скорпионов думать о том же, о чём я думаю под парижским дождём. Сунуться в Россию? Нет — это полымя. Уйти в монахи? Но религия скучна, чужда мне и не более чем как сон относится к тому, что для меня есть действительность духа. Покончить с собой? Но мне так отвратительна смертная казнь, что быть собственным палачом я не в силах, да, кроме того, боюсь последствий, которые и не снились любомудрию Гамлета. Значит, остаётся способ один — исчезнуть, раствориться».
Рассказ написан как конкретный мемуар о конкретном человеке, который и впрямь исчез, написан нарочито сухо и как бы реально-реалистично, без тени метафоры или условности. Написан рассказ на чемоданах, в мае 1940 года. Набоковы плывут в Штаты. Русский поэт и писатель Сирин исчезнет навсегда. Он исчезнет не столько на другом континенте («геркулесовы хлопоты»), сколько в другом языке. Нет для писателя большего разрыва с родиной, чем разрыв с языком его произведений. Но неотвязный этот кошмар невозвратимости, необратимости родины должен быть побеждён и преодолён. Сирин эмигрировал из эмиграции, на этот раз сам. Это мы знаем про великого англоязычного писателя Владимира Набокова — русский писатель Сирин таких гарантий не имел. Вот как кончается тот же рассказ о Василии Шишкове:
«Но куда же он всё-таки исчез? Что вообще значили его слова — «исчезнуть», «раствориться»? Неужели же он в каком-то невыносимом для рассудка, дико буквальном смысле имел в виду исчезнуть в своём творчестве, раствориться в своих стихах, оставить от себя, от своей туманной личности только стихи? Не переоценил ли он «прозрачность и прочность такой необычной гробницы»?
Можно говорить о тесности и бесперспективности эмигрантского литературного круга для Сирина, о разгорающейся мировой войне, о необходимости спасти семью — и всё это будет правда. Но нельзя не сказать, что писатель Сирин «исчез» в том же направлении, в котором на протяжении почти двадцати лет исчезали многочисленные его герои. Между Европой и Россией — суша. Все его герои уходят туда буквально, то есть ногами, пешком. Другие берега — это не Россия, это Америка. Орудием казни был пароход, отошедший от Севастополя в 1919-м. Окончательный разрыв, другие берега—пароход, океан. Юного Набокова отделило от России Чёрное море. Между Сириным и Набоковым должен был поместиться океан, отделяющий английский язык от русского.
Ходасевич подошёл к романам Сирина, разнообразным по героям, сюжетам и коллизиям, как к романам о творчестве как таковом. Творчество само имеет свой сюжет, свой пейзаж, свои законы времени, своих героев, свою реальность, которые и воплотил с такою яркостью Сирин. Всё это лишь задрапировано изящным покровом внешней сюжетики и реальности. Ходасевич убедителен, всё это верно в отношении Сирина-Набокова. Но в таком случае между творчеством и Россией следует поставить знак равенства.
Я всё ещё не сказал ни слова о стихах…
«Набоковисты» (поклонники, не подозревающие о своей принадлежности — лучше им и не знать друг друга, — сложившейся в застойные 1970-е в России после того, как русские романы Набокова стали просачиваться в страну в перепечатке «Ардиса»), как правило, полагают стихи его слабее прозы. Это слишком просто — важно понять, зачем и почему, будучи столь неоспоримым мастером в прозе, он не переставал их писать, пусть и более слабые. Предпочтя стихи Бунина его прозе, не защищал ли Набоков свои собственные стихи от своей собственной прозы? (Так, единственный мне известный «набоковист», предпочитающий стихи Набокова его прозе, В. Солоухин, тоже защищает свои стихи от своей прозы…)
Ничто так не выражает (а в слабости — обнажает) личность человека, как его поэзия. Великое (многие полагают, что и чрезмерное) мастерство Набокова в его прозе гипнотизирует и мистифицирует нас. Мы всегда хотим унизить то, что заведомо поставим выше себя. Да, конечно, мастер, да, конечно, талант, да, возможно, гений, но… Сколько я слышал такого. То холодный, то неверующий, то бездушный, то циничный, то жестокий (короче — безыдейный…). Мы отказываем человеку в боли, чувстве, трагедии за то, что ставим его выше себя. Не есть ли это плебейство или попросту зависть? Не есть ли и пресловутое мастерство (тем более избыточное) своего рода маска человека застенчивого, нежного, ранимого и израненного, страшащегося насилия (в том числе насилия истолкования)? Почему мы полагаем, что человек самонадеян, самовлюблён, ставит себя выше окружающих (кстати, а почему бы и нет?), что он в восторге от себя и самодоволен, как раз в том случае, когда мы сами в восторге от него? Не влюблены ли мы сами? (Вспомните чувства героя из рассказа «Круг».) Не есть ли обострённое чувство достоинства то, что мы полагали за высокомерие или самодовольство?
Ревнивый почитатель и критик (в одном лице) снимет все эти подозрения и вздохнёт с облегчением, переходя от прозы Набокова к его стихам. Столько бесхитростной, открытой, даже неприкрытой любви! Нет, зря мы подозревали его в прозе. «Моя жизнь — сплошное прощание с предметами и людьми, часто не обращающими никакого внимания на мой горький, безумный, мгновенный привет» (рассказ «Памяти Л.И. Шигаева»).
Набоков тоже человек, а не только мы с вами, потому что не умеем, как он.
Читайте же стихи Набокова, если вам непременно надо знать, кто был этот человек. «Он исповедался в стихах своих довольно…» Вы увидите Набокова и плачущим и молящимся.
Я выехал давно, и вечер не родной
рдел над равниною не русской,
и стихословили колёса подо мной,
и я уснул на лавке узкой.По занавескам свет, как призрак, проходил.
Внимая трепету и тренью
смолкающих колёс, — я раму опустил:
пахнуло сыростью, сиренью!Была передо мной вся молодость моя:
плетень, рябина подле клёна,
чернеющий навес, и мокрая скамья,
и станционная икона.
И это длилось миг… Блестя, поплыли прочь
скамья, кусты, фонарь смиренный…
Вот хлынула опять чудовищная ночь,
и мчусь я, крошечный и пленный.
Дорога чёрная, без цели, без конца,
толчки глухие, вздох и выдох,
и жалоба колёс, как повесть беглеца
о прежних тюрьмах и обидах.
(«В поезде»)
Восхищение Набоковым, преклонение перед его мастерством — ничто по сравнению с тем неразделённым его одиночеством, тем нашим долгом ответной любви, которой он не получил.
Не тот ли мальчик так же остался стоять на палубе, глядя на отплывающий от него Севастополь, и простоял так до самой смерти?.. Великий писатель, вундеркинд, инфант, учёный, открывший свою империю взамен утраченной… Он собрал всё брошенное нами, всё лишнее, неважные вещи, отсеянные из нашего опыта навсегда вовсе не грубостью и жестокостью жизни, а нашим грубым представлением о ней. Вот вам и великий мастер детали! Мы узнаём у Набокова то, что забыли сами, мы узнаём свои воспоминания (без него бы и не вспомнили) о собственной не столько прожитой, сколько пропущенной жизни, будто это мы сами у себя эмигранты. Набоков запомнил всё и ничего не забыл. Он восстановил в правах такое количество и качество подробностей жизни, что она и впрямь ожила под его пером, пропущенная было всё более невнимательной и сытой мировой литературой (вдруг вспомнил те часики с потерянным стёклышком, которые ещё идут в одном из его рассказов). Как всякий император, он что-то присвоил себе: бабочку, нимфетку, невстречи, случай, совпадение, опоздание, ошибку… Поэт невстречи, он соткал из всего этого паутину, сквозь дымку которой мы видим мир почему-то отчётливей, а не туманней.
Как учёный (а он именно учёный и потому энтомолог, а не наоборот) он каждый день вглядывался в строение мира, а как художник наблюдал Творение. Оттого мир его и не груб, как постоянно вычленяемое нами «главное», а тонок, как целое. Только тонкие различия принципиальны (как «производственно» помог опыт энтомолога писателю!). Тонкость мира есть граница, пыльца контакта между жизнью и небытием. Что-то есть жестоко детское и беззащитное в отношении Набокова к смерти как к «всего лишь» разлуке. Он-то знал, что значит это «всего лишь». Этот жгучий детский интерес к смерти и невозможность её признать — попытка смотреть на солнце, дольше всех не сморгнув. Набоков накалывает каждую следующую смерть, как бабочку, отменяя тем самым смерть. И в булавке важна не боль протыкаемого, потому что уже мёртвого, тела, а отблеск солнца в ртутной, градусниковой сферочке булавочной головки.
И теперь, когда Набоков наконец, уже в XXI, как многие считают, веке, в ещё одном своём послесмертии, вернулся на родину (сколько же не заслуженного нами пафоса вкладываем мы в это утверждение, будто находя в этом достижение и заслугу…), надо не забывать, что вернулся он сам, но только не так, как ему или тем более нам хотелось, а как его Мартын из «Подвига» — через пейзаж, висевший над его детской кроваткой.
Так что, во-первых, это именно нам следует помнить, что это не он, а мы пытаемся вернуться на родину.
2. Смерть как текст
Самоутверждаться в системе оценок — с одной стороны, паразитизм культуры, с другой — поддержание порядка на этом погосте есть единственное обеспечение её существования. Поэтому: стройность и ухоженность этих могильных холмиков и надгробий — понятий, имён, дат и иерархий на кладбищах учебников, монографий, энциклопедий и словарей — являются определяющим признаком культуры. В школах и университетах учимся мы лишь тому, что было, что прошло, — прошлому, смерти, убеждая себя в том, что живём вопреки ей. Неприменимость знания к жизни есть тоже признак культуры, причём уже достаточно высокой. Поэтому: кто великий, кто большой, кто замечательный, кто знаменитый, кто прославленный, кто выдающийся, кто гениальный — есть не только расхожая пошлость человеческих амбиций, в частности литературных, но и устав, в самом армейском смысле, культуры. Устав, на букве которого легче всего чинопродвигается заурядность и посредственность: легче ухаживать за избранной могилкой, подворовывая собственную жизнь, чем жить собственной жизнью с живым человеком. Неистовость прижизненных фанатов — не более чем проекция долгожданного распятия. Прижизненное признание — не самая точная функция современника.
Ещё есть категория «бессмертный», применяемая более к творениям, чем к их создателям, и лишь отчасти к их репутациям, с которыми мы ничего поделать не можем, которые прорастают сами, то есть действительно живут. Так что бессмертие — это судьба, то есть продолжение той же жизни, но уже за гробом. Не завершённая при жизни жизнь — бессмертна, и не оттого ли наши поэты предпочитали гибель, в которой мы, по традиции, виноватим общество?
(…Самому Набокову, обносимому то Нобелевской премией, то какой-нибудь почётной мантией, то каким-нибудь ещё «бессмертным» членством и чванством, ничего не оставалось, как пренебрегать подобными дефинициями, быть выше «этого» и, сетуя на непереводимость русского слова «пошлость», презирать Фрейда с его «венской делегацией», похождения тихих донцев и Доктора Мертваго, социальных популяризаторов типа Оруэлла, или предпочитать стихи Бунина его прозе и назначать Ходасевича первым поэтом XX века, или призывать в наследники смельчака, который простым молотком трахнет по гипсовым головам Томаса Манна, Горького и Бальзака,
и т. д. и т. п., что само по себе, по системе тестов кого-нибудь из «членов делегации», свидетельствовало бы о подавленном небезразличии к понятию славы, то есть некоторой ревности к пошлейшим дефинициям места в литературе.
Сам Набоков был не чужд… чего стоит желчная меткость его определений: «парчовая проза» (Бунин), «лампочка, горящая днём» (Достоевский), или даже Гоголь («нос и желудок»), — не чужд, расставляя ученические отметки русской классике (тайная слабость наедине с Верой Евсеевной): то одному четвёрку с плюсом, то другому пятёрку с минусом… и вдруг Тургенев обходит Толстого. И своим фанатам-набоковистам, зарождающемуся набоковедению, выставляет он пятёрки и четвёрки независимо от заверений в преданности и любви).
Мне здесь хочется заявить, что Набоков, несмотря на ту нишу, в которую его засунут потомки, есть самый бессмертный писатель, бессмертный именно в категориях жизни, потому что бессмертие — его основная тема. И никому не известно, как оно ему воздаст за столь истовое себе служение.
Набоков — певец не жизни или смерти, и не жизни и смерти, и не жизни в смерти, и не смерти в жизни, а именно бес-смертия он певец.
(Слово «бес» попуталось… пожалуй, оно тут ни при чём… скорее, тут попутал бес «красного словца»… «красное» нам западло, и мы в эту сторону не пойдём… так что без-смертие.)
Без-смертие как состояние жизни.
Без-смертны именно весенние цветы, бабочки-однодневки и девочки лет двенадцати.
Бессмертен комариный укус. Он обессмертен крестиком, продавленным ногтем на лодыжке возлюбленной («Весна в Фиальте»).
Бессмертны потерянные ключи, когда ты стоишь на пороге первого любовного свидания («Дар»).
Бессмертен апельсин в руке матери («The Real Life of Sebastian Knight»).
Бессмертен неразбившийся стакан («Pnin»).
Бессмертна глуховатость мужа Лолиты.
Бессмертна ошибка, случай, опоздание, отсутствие, утрата, незнание — невстреча.
Бессмертна сама смерть.
Бессмертно всё то, что уловлено взглядом и слухом и запечатлено.
Набоков изловил бесконечное количество бабочек, но и бессмертие его детали есть та же самая бабочка, но уже человеческого бытия.
Чтобы обессмертить реальную бабочку, её надо поймать, заморить, препарировать, классифицировать (дать ей имя), поместить в прозрачный саркофаг для обозрения.
Требуется не помять, не повредить пыльцу крылышек…
Чтобы отловить деталь живой жизни, требуется ничего не повредить. Деталь нельзя удалить из жизни. Нельзя и пригвоздить к бумаге.
Для того чтобы постичь тот эффект Набокова, которым бесхитростно восхищаются его читатели, стоит задуматься, зачем он был так жесток с бабочками и как претворял опыт в метод. (Член «венской делегации» подсказывает мне словечко «сублимация», и я опять недослышиваю, как муж Лолиты: ась?)
Есть много суждений о неверии и чуть ли не атеизме Набокова, которые можно многообразно иллюстрировать из его собственных сочинений всяческими шпильками в адрес церковников. И тут я предамся в очередной раз своим мемуарам о Владимире Владимировиче…
В романе «Подвиг» (в который раз признаюсь, что моем любимом из русских его романов) я набрёл на страничку с таким открытым признанием в Вере, что она одна (оно одно?) легко опровергала (о) все его прочие высказывания на её счёт или, скорее, ставила(о) их на подобающее место. Желая тут же процитировать это место, я его тут же не нашёл. Как сквозь страницу провалилось… Будто он и не написал её, а нашептал.
(Вот и сейчас — я пишу это в Петербурге — среди многочисленных постсоветских изданий В.В. не нашлось ни одного с «Подвигом». Так что опять странички той нет. А я-то хотел её здесь как раз процитировать…).
Но один раз мне эта страничка всё-таки открылась…
И опять начну вспять, с начала…
В 1991 году, как раз перед пресловутым путчем, я подыскивал для семьи дачу под Петербургом (тогда ещё Ленинградом), желательно в районе Токсово, родного для меня места. Нас преследовала неудача. Отчаявшись, направились мы в противоположную сторону по случайному адресу, сорванному со столба ручкой нашей двенадцатилетней (sic!) племянницы. Гатчина… Сиверская… Что-то мне всё это напоминало. В Гатчине — дворец и памятник Павлу — оба хороши, и оба оказались на месте; в Сиверской… два воспоминания нависли надо мной, то есть я не мог вспомнить. И оба наметились из одной точки — сочинения Ивана Петровича Белкина «Станционный смотритель». Трактир «У Самсона Вырина», перереставрированная до неправды валютная штучка, означил для меня поворот налево, и прямо передо мной, слева от шоссе, за мостиком, на холмике, открылось… некое равнодушие опять залило мне глаза, и я не посмотрел: мол, как раз поворачивать, надо за дорогой следить, и машина ГАИ как раз сторожит на пути взгляда. Не увидел.
(А невозможно было не увидеть! Свято место пусто не бывает, зато меня в нём нет. Есть у меня такой подсознательный оберег: ни разу в квартире на Мойке, ни разу в Михайловском, вот и в Рождествено — ни разу… а именно оно нависало над инспектором ГАИ, зарифмовавшим себя с Самсоном Выриным!)
Зато — как повернул, шлагбаум миновал, железнодорожные пути перековылял, к мосту через Оредеж подъехал, уже в Сиверской, — смотрю: заводь с отвесным красным обрывом и сосны поверху — видел я этот пейзаж, знаю его! хотя ни разу в Сиверской не бывал. Во сне видел. А откуда сон? Вспомнил (со слов мамы): перед войной мы тут дачу снимали… Так вот откуда этот берег! через полвека судьба вернула меня на то же место, может, и в тот же дом, он ровно моего возраста оказался… Купил я его.
В прошлом году я побывал в раю. Рай размещался в Чивителла Раниери, крепком, замечательно отреставрированном (со всеми удобствами) замке XIV века недалеко от городка Перуджа в Умбрии. Здесь меня настигла ужасная русская весть, что в Рождествено сгорела дотла усадьба Набокова. Значит, четыре года уже я помещичествовал в двух шагах, да так и не сподобился… Два века благополучно простояла, дожидаясь хозяев, пережила Советскую Власть, в Набоковском фонде уже поговаривали о необходимости реституции, ибо Дмитрий Владимирович, сын и наследник, обещал тут же передать всё в дар фонду в случае вступления в законные права… нате вам!
то есть вот те на! Не побывал.
Из «рая» я переехал в Сиверскую. Тем более не собирался я разрывать сердце на пепелище… Но приехали немцы снимать телесюжет о Набокове, накрыли меня в моей письменной баньке. Пробовал я им изнутри баньки всё про Владимира Владимировича рассказать, приблизительно в сторону его усадьбы в подслеповатое окошко указывая, — не прошёл номер: им не символика — им вещь дай пощупать… и «Подвиг» на этот раз оказался под рукой, да страничка сокровенная опять
не нашлась…
И повлёкся я за ними (за немцами) на пепелище, которое и впрямь от дачки моей было в двух шагах.
Выбрались на шоссе и только повернули налево, как тут же мост через Оредеж, и «Другие берега» отворились сами ровно на том месте, где этот именно проезд и описан (у Набокова?), и не успел я сравнить открывшийся вид с описанием, как и усадьба открылась.
С трепетом и опаской бродил я по обгоревшим балкам, как канатоходец, и камера преследовала меня. Здесь подобрал я щедрый набоковский дар: прямо посреди пустого холла, прямо возле ноги… обгоревший томик Пушкина юбилейного года издания, ровесник Владимира Владимировича, так что мальчиком, здесь, вполне мог он его читать. И как музейщики, тщательно обшарившие пепелище, не подобрали именно его! (АНДРЕЙ! Сюда бы эту страничку! Томик-то жив?). Томик обгорел и стал овальным, в середине сохранился текст, окружённый изящным пепельным рюшем, как крылышко бабочки-траурницы. И здесь, в сквозящем на все четыре стороны света обгорелом каркасе, цепляясь за столбы и стропила, открылся в одну сторону — тот самый мой довоенный пейзаж с красным обрывом, а в другую — храм Божий на соседнем холме. И, глядя на него, раскрыл я наконец «Подвиг» ровно в том, каком надо было, месте…
«Была некая сила, в которую она (Софья Дмитриевна, мать Мартына. — А.Б.) крепко верила, столь же похожая на Бога, сколь похожи на никогда не виденного человека его дом, его вещи, его теплица и пасека, далёкий голос его, случайно услышанный ночью в поле. Она стеснялась эту силу назвать именем Божьим, как есть Петры и Иваны, которые не могут без чувства фальши произнести Петя, Ваня, меж тем как есть другие, которые, передавая вам длинный разговор, раз двадцать просмакуют своё имя и отчество, или ещё хуже — прозвище. Эта сила не вязалась с церковью, никаких грехов не отпускала и не карала, — но просто было иногда стыдно перед деревом, облаком, собакой, стыдно перед воздухом, так же бережно и свято несущим дурное слово, как и доброе. И теперь, думая о неприятном, нелюбимом муже и о его смерти, Софья Дмитриевна, хотя и повторяла слова молитв, родных ей с детства, на самом же деле напрягала все силы, чтобы, подкрепившись двумя-тремя хорошими воспоминаниями, — сквозь туман, сквозь большие пространства, сквозь всё то, что непонятно, — поцеловать мужа в лоб. С Мартыном она никогда прямо не говорила о вещах этого порядка, но всегда чувствовала, что всё другое, о чём они говорят, создаёт для Мартына, через её голос и любовь, такое же ощущение Бога, как то, что живёт в ней самой. Мартын, лежавший в соседней комнате и нарочито храпевший, чтобы мать не думала, что он бодрствует, тоже мучительно вспоминал, тоже пытался осмыслить смерть и уловить в темноте комнаты посмертную нежность».
(Вот и опять ровно на этом месте… текст «замёрз», как в компьютере, и я, уже в Москве, не находил цитаты; а нашёл её здесь, в Переделкине.) И вот что ещё замечательно: усадьбу уже начали реставрировать! Нет, не мэрия, не Министерство культуры, ни какая ещё власть — «новые русские». Чистюля и Могила были их кликухи. Один составил себе состояние на общественных туалетах, другой — на кладбищах. Бабочки, нимфетки… С чего и начинать обустраивать Россию, как не с туалетов и кладбищ! И музей как вершина треугольника.
Значит, так: Набоков — не такой, как мы думаем. Как и Пушкин, он не для нас писал. Скажем так: для чего-то ещё. И вот это-то ещё нам уже нужнее воздуха и воды. Россия «Других берегов» бессмертна. Набоков ровно на столетие младше Пушкина; Гоголь напророчил нам Пушкина как «нового человека» через двести лет; через три года мы отметим столетие Набокова и двухсотлетие Пушкина; кто же это родится у нас в 1999-м?
Набоков уже другой, чем мы. Раздвоение русской культуры XX века на советскую и эмигрантскую именно в нём преодолено, претворено в мировой феномен непрерывности. Набоков не оправдал наших надежд — зато нам есть на что надеяться после него. А теперь и после Бродского.
Тут и кроется разгадка ложного мифа о снобизме, высокомерии, элитарности, эстетстве: плебейское желание поиметь всё сразу и сейчас — не удовлетворено. А то, что Набоков очень застенчивый, нежный, прозрачный, ясный, чистый, даже
наивный писатель, ещё рано нам открывать. Он сам запечатал это своё целомудрие множеством секретных печаток и тайных замочков, в которых дано сейчас только поковыряться кому-либо из наиболее тонких и незазнавшихся его читателей.
Он приснился мне однажды ещё при его жизни. За подлинность я могу ручаться: во сне было по крайней мере две детали, о которых я в ту пору понятия не имел, и они впоследствии (уже после его смерти) подтвердились… Он был на голову выше меня (физически) и приехал в Ленинград инкогнито как энтомолог.
Идея конечности художественного текста намекает на его предшествие, на его наличие до его написанности, на его даже врождённость. Литература же, в таком случае, существует как данность, в смысле — дарованность. И только так хочется тут толковать слово «дарование», с сохранением движения внутри, глагольности. Дарование как посвящение, как Крещение. Суперзамысел, гиперзамысел есть, в таком приближении, не только развитие (имперское) литературного жанра как амбиции, но и тяготение к единству текста, тебе врождённого. Начиная с Гомера и кончая «Улиссом» же. Все постмодернистские идеи есть не столько результат развития и поиск пресловутого «нового», а возвращение к изначальности, к первому слову, зачистка врождённого нерва. Мир нуждался в Гомере, чтобы воспеть себя. Слепец не знал письменности. Платон ли автор самого великого героя мировой литературы, или Сократ нуждался в исполнителе, чтобы быть запечатлённым? Что сгорело в Александрийской библиотеке? Не столетним ли усердием авторов рыцарских романов сочинён «Дон Кихот» и записан одной рукою? На эти вопросы так же невозможно ответить, как и на вопрос, откуда Веды, Талмуд, Евангелие или Коран. Во всяком случае, если взглянуть на Евангелие как на жанр, то сюжет, пересказанный четырьмя очевидцами под одной об-ложкой, превзойдёт любые авангардистские изыски, а как и Кем он был продиктован или нашёптан — другое дело.
Золотой Век русской литературы, если ограничить его троицей Пушкин — Лермонтов — Гоголь (так гипнотизировавшей, кстати, и Набокова), создавал в каждом и всего по одному: они пробегали по жанрам, как на тот берег по льдинкам во время ледохода: стихотворение — цикл — поэма, рассказ — повесть — роман, комедия — драма — трагедия, внезапность слова КОНЕЦ до воплощения ГИПЕРЗАМЫСЛА, потому что всё написанное в целом как раз им и оказалось. Их ранняя, преждевременная смерть, столь справедливо нами до сих пор оплакиваемая, не более внезапна, чем их рождение, чем их текст. Текст переплетён в даты рождения и смерти с не нами определённой точностью и тщательностью, с наличием «Евгения Онегина», «Демона» и «Мёртвых душ» внутри, как и сам Золотой Век переплетён в «Историю государства Российского» Карамзина и «Словарь живаго…» Даля.
Если определить текст как органическую связанность всех слов, от первого до последнего и каждого с каждым, то это слегка напомнит самое жизнь, в которой, в принципе, нет ничего отдельного, не связанного со всем прочим. Если же предположить, что Поэту (в высоком смысле слова) текст дарован от рождения, врождён, то окончание подобного сверхтекста означит и окончание самой жизни или обречённость на немоту. Подобная взаимосвязь жизни и текста именуется назначением, неуклонное следование назначению — судьбой, а воплощение судьбы — подвигом. Всегда хочется ещё и ещё раз подумать, зачем Набоков назвал тот самый свой роман о возвращении на родину «Подвигом». Подумав, любопытно тут же отметить, как много у Набокова героев уже не в литературном, а в героическом смысле слова. Собственно, все его герои, включая преступных, ничтожных и униженных, ещё и герои в прямом смысле слова: и Гумберт Гумберт, и Лужин, и Пнин. Решаясь определить пределы личного существования, они заглядывают за пределы, где жизнь существует в неподвластной форме — в форме безумия. И это определённый риск, отдалённо напоминающий писательский опыт. Там жизнь реальна, где не объяснена, где её не объять умом. Набоков — реалист в том смысле, что именно реальную жизнь он пишет. Её — мало. Она — бессмертна. Он ловит её в свой сачок. Текст кончается и умирает. Жизнь, в нём запечатлённая, остаётся бессмертной.
Прожив жизнь в жизни и жизнь в тексте, автор удваивает её на её бессмертную половину. Оставив после себя чистый стол.
Карл Проффер рассказывал, что у Набокова в последние его дни не осталось черновиков. Поверхность стола была чиста, как белый лист бумаги. Всё было разложено, систематизировано, подшито. Аккуратные папки. Каков был бы энтомолог, если бы жучки и бабочки были разбросаны по кабинету…
Подобные воспоминания существуют об Александре Блоке: необыкновенная аккуратность и чистота стола, уже не энтомологическая, а «немецкая». Это дополнительно давало пошляку возможность говорить о его «исписанности».
Ничего, кроме исписанности, от писателя не требуется.
Им закончен дарованный ему текст.
Блок и Набоков переплетают нам Век Серебряный.
Со всем, что внутри.
И с проклятием, и с молитвой
Жизнь не более, чем была…
И обрезана, точно бритвой,
Краем письменного стола.
Я вспоминаю, я воображаю, я мыслю…
Легко сказать.
Попробуйте вспомнить память, вообразить воображение, подумать саму мысль.
Ничего не получится. Ничего, кроме гулкого свода…
Я хотел аукнуться — рот мой раскрылся и не издал ни звука.
Здесь не было звуковой волны.
То есть не было воздуха.
В испуге я осознал, что грудь моя не вздымается. То есть я не дышу.
Я прижал свою руку к груди.
Оно не билось.
Я умер?
Превращение жизни в текст (воображение) подобно возвращению текста в жизнь (память). Память и воображение, таким образом, могут оказаться в той же нерасторжимой, взаимоисключающей связи, как жизнь и смерть.
Опыт воображения, то есть представления жизни без себя, без нас, может оказаться опытом послесмертия, который каждому дано познать лишь в одиночку. Воображение — столь же бессмертная часть нашего существования, как сама смерть. Каждый из нас познаёт, приобретает опыт послесмертия внутри жизни точно так, как получает с рождением память предшествовавших — самой жизни и человечества — генетически. И если мы люди, то не нарезаны на слепые отрезки жизни и смерти, как сардельки, а содержим всю череду смертей до своего рождения, как и всю череду последующих рождений в своём послесмертии. И если это не дурная бесконечность (в случае самоубийства… перечитаем «Соглядатая»), то единственно осмысляемый нами отрезок может быть от акта Творения до Страшного суда, который не так уж страшен после всего пережитого, потому что вполне заслужен. То есть — до Воскресения. Между кладбищем памяти и воображением как смертью наша душа отрывается от тела ежемгновенно. Мы — живём.
Тайна, запирающая для нас вход и выход, рождение и смерть, и есть тот дар, та энергия заблуждения (по определению Л.Н. Толстого), с которою мы преодолеваем Жизнь, чтобы выполнить Назначение.
В этом смысле бессмертие нам назначено.
С отрубленной головой Цинциннат обретает своих.
Жизнь есть текст. И те три, девять, сорок дней, год, в течение которых (кажется, во всех конфессиях) мы перечитываем жизнь ушедшего от нас, переплетённую в его даты, — и есть изначальный жанр любого повествования: рассказа, повести, романа, эпопеи, — где именно замысел есть вершина, а исполнение — подножие, где нам всё ясно в отношении конца героя, но не всё ещё домыслено относительно его рождения, и мы пишем вспять, возрождая его от смерти к жизни, в подсознательной надежде, что когда-нибудь и с нами так же поступят.
Источник: Частный корреспондент
